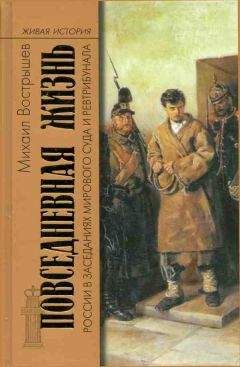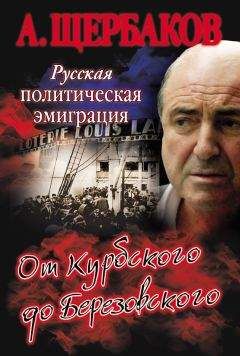Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Эмигрантских кибиток в ту пору много мчалось по Парижу. Журналист Хантингтон, американец, интересовавшийся русскими парижанами, написал о них в 1933-м книжку, рассказав и о том, как проводил время, собирая материал для своих очерков: «Вас привез в кабаре генерал, помог выйти из такси адмирал, для вас играл на балалайках оркестр бывших солдат с дирижером-полковником, а к столику сопровождал капитан. И все это за один вечер».
Генералы среди таксистов были не редкость, носители громких фамилий тоже. Гуль упоминает командира Дагестанского полка князя Амилахвари, пошедшего в «шоферскую конницу». У Яновского описана встреча с кавалергардом князем Ширинским-Шихматовым. Этот таксист создал в Париже Пореволюционный клуб, выпустил два номера «Утверждений», журнала очень левой ориентации (а ведь отец Юрия Алексеевича, обер-прокурор Синода, любил повторять, что правее его только стенка), женился на вдове эсера Бориса Савинкова, говорил, что привержен национал-максимализму, но по своим моральным принципам остался старым аристократом, Рюриковичем. Когда в Париж вошли немцы, Ширинский объявил, что обязательно наденет на рукав желтую повязку, которую заставляли носить евреев. А в лагере вступился за избиваемого соседа и был тут же расстрелян.
В кафе на Монпарнас таксисты заглядывали только время от времени, у них были свои адреса — дешевые бистро и русские ресторанчики вокруг площади Ля Мотт-Пике. Там после смены много пили, размазывая по лицу слезы. Жизнь была трудная, не отпускала тоска. А сама мысль, что завтра, после тяжелого сна на давно не перестилавшейся койке в пансионе для отбросов общества, опять надо тащиться в гараж, вызывала отвращение.
Гуль, приехав в Париж после недолгой отсидки в немецкой тюрьме, первое время жил у Жоржа Леонтьева в ободранном отельчике под пышным названием «Золотая лилия». Знакомство вышло случайно: Леонтьев вез гуля с вокзала и, поняв, что у клиента в Париже ни кола ни двора, привел к себе. Происходил Леонтьев из военной семьи, сам повоевал в Гражданскую, сбежав на фронт подростком, а в «растреклятой Франции» ему, кроме шоферского ремесла, занятия не нашлось. Как для князя Андрея Оболенского не нашлось другого способа заработать на жизнь, кроме кисти маляра.
Таких были тысячи, гуль запомнил бывшего кавалериста ротмистра Бухарина, у которого от запоев дрожали руки, так что водительскую лицензию отняли, и он слонялся из притона в притон, повторяя одну и ту же фразу: «Господину офицеру стакан красного вина!» Платили за вино его товарищи-таксисты или хозяин из сострадания наливал просто так.
Машины были не свои, взятые в аренду за шестьдесят франков в день. Страховка, ремонт, горючее — все за счет арендатора. Чтобы выкрутиться, работали по двенадцать часов без выходных, а то и больше. Караулили загулявших богатых иностранцев, зная, что они обязательно потребуют везти в бордель, где шоферу платили, если доставлял гостя с набитым бумажником. Жестоко ругались с конкурентами, с таксистами-французами, нередко доходило до драк. Случалось кулаками выяснять отношения и с пассажиром, когда тот объявлял, что у него ни сантима, или наоборот, скрутив его, отнимать револьвер — пассажир, оказывается, решил покончить с собой, напоследок прокатившись по бульварам.
Существовал парижский Союз русских шоферов, каждый год 16 июля устраивался праздник — концерт, обед, разговоры под водку. Костерили владельцев гаражей и французские власти: где только могут, непременно придерутся. Вот, потребовали справок об отсутствии судимости. И вообще не выдают лицензию, если не француз. Хоть записывайся в Иностранный легион, этим они не отказывают.
Писатель Гайто Газданов водил парижское такси два десятка лет с лишним, до войны и после, пока в 1953-м не стал сотрудником американской радиостанции «Свобода», а потом директором русского вещания.
У него была романтическая биография вроде тех, какие любил придумывать высоко им ценимый Эдгар По (поверив в сочиненную американским романтиком историю его бегства к Байрону, в Грецию, а затем мытарств в морозном Петербурге, Газданов написал об этом рассказ «Искатель приключений»). По рождению Газданов был осетин, никогда об этом не забывавший, хотя рос он в Петербурге, а родного языка не знал. Из гимназии в неполные шестнадцать лет он попал на фронт, к белым. Пройдя через жестокие переделки, поздней осенью 1920-го эвакуировался из Феодосии. Бронепоезд, на котором служил Газданов, захватили красные. Дальше все знакомо: лагерь для остатков Добровольческой армии на Галлиполи, Константинополь, Болгария и с 1923-го — Париж.
Ни денег, ни связей у Газданова не было, и он пошел работать грузчиком, потом мыл окна, стоял у конвейера на заводе «Рено», наконец получил права и взял в аренду такси. Писать он мог только вечером. Все остальное время было рассчитано по минутам: чуть поспав, Газданов отправлялся учиться в Сорбонну, а к ночи начиналась смена.
Его заметили по нескольким рассказам, напечатанным «Волей России» и журналом «Своими путями», где тогда работал Эфрон. Рассказы запоминались и жутковатой атмосферой — Гражданская война, озлобление, механическая бесчеловечность, — и яркостью необычной стилистики. Нестрого связанные эпизоды мелькали, точно в калейдоскопе, и посреди обыденности, в «точке фокуса», которая всегда обнаруживается за хаотичным течением событий, возникала фантасмагория. Эрудиты сразу нашли более или менее близкий аналог: Бабель, который недавно выпустил «Конармию». Тема тут и правда была общая, Газданов определит ее, сказав, что у его поколения «душа выжжена».
Кстати, Бабель о нем знал, и когда на родине произошел «великий перелом», означавший начало Большого террора, доверительно признался художнику-эмигранту Юрию Анненкову, что размышляет над вопросом: «Остаться тоже здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов?» Похоже, Бабель успел прочесть первый газдановский роман «Вечер у Клэр», который в 1929-м сделал автора известным в литературных кругах. Поразмышляв, Бабель вернулся в Москву, где накануне войны его арестовали и казнили. О возвращении подумывал и Газданов, но уж слишком стойкой была его аллергия к большевизму.
Впрочем, к эмиграции тоже. Газданов предъявил ей строгий счет, в особенности — эмигрантской литературе, поскольку эта литература, как он считал, просто миф. Нашумела его статья «Литературные признания», где сказано: «Мы живем, не русские и не иностранцы, в безвоздушном пространстве, без среды, без читателей, вообще без ничего — в этой хрупкой Европе — с непрекращающимся чувством того, что завтра все опять „пойдет к черту“… Нам остается оперировать воображаемыми героями, если мы не хотим возвращаться к быту прежней России, которого мы не знаем, или к сугубо эмигрантским сюжетам, от которых действительно с души воротит».
Это было очень монпарнасское настроение, и тем не менее Адамович, главное лицо на русском литературном Монпарнасе, возмутился, написав, что недопустима такого рода «гимназическая писаревщина». Адамовича оттолкнула резкость, даже категоричность формулировок, тем более что, по Газданову, молодой литературы эмиграции тоже не существует. Сознанию нового поколения, писал он, чужды ценности и понятия начала столетия, когда еще не разразилась катастрофа. Однако собственных понятий и слов это поколение не нашло, а стало быть, в творческом смысле оно не осуществилось. Нужно, разумеется, сделать исключение для Сирина, но ведь он писатель без родины и без традиции (пока под конец 30-х годов не появился «Дар», так думали многие). И стало быть, разговоры о миссии эмиграции, которую должна исполнить прежде всего литература, — только пустые разговоры.
Шокированные подобной прямотой монпарнасцы, и не только они, сочли, что все дело в неуживчивости Газданова, хотя ему не стоило бы настраиваться так непримиримо: ведь его — случай для молодых почти исключительный — регулярно печатают «Современные записки», создававшие литературные репутации. Но на самом деле он лишь наиболее четко выразил витавшую в воздухе мысль, что в эмиграции между старшими и младшими появился барьер обоюдного непонимания и что это неслучайно. Старшим все еще грезится, что не отжила свое «общественно-политическая литература», хотя она давно стала химерой, и они пресерьезно полагают, будто сохранилась связь с тем культурным слоем, которому когда-то, в России, принадлежало их творчество. Но ведь они больше не элита. Став эмигрантами, они теперь относятся к социальным низам, — как же не считаться с новой ситуацией? Дорожить архаикой, ограничивать мир литературы воспоминаниями, все более смутными год от года, — разве это, подразумевая творческий потенциал, не самоубийство?
А молодые, те, кто пытался сказать именно о необратимой перемене в русской судьбе, остаются неуслышанными, не чувствуют поддержки, да и попросту не справляются со своей задачей, хотя она ими понята верно. И вот уже возникает ощущение полной ненужности литературы, а дальнейшее легко предсказать: талант вянет, руки опускаются, вся энергия уходит в бесконечные прения за столиками кафе. Не желая для себя такой участи, Газданов написал в 1930 году Горькому, что, наверное, хотел бы уехать в СССР, так как эмигрантская жизнь гнетет его своей бесцельностью.