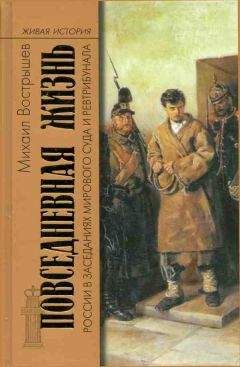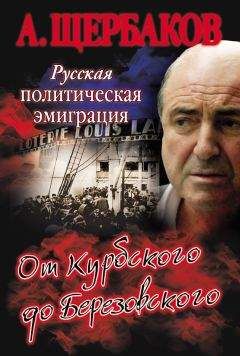Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
А молодые, те, кто пытался сказать именно о необратимой перемене в русской судьбе, остаются неуслышанными, не чувствуют поддержки, да и попросту не справляются со своей задачей, хотя она ими понята верно. И вот уже возникает ощущение полной ненужности литературы, а дальнейшее легко предсказать: талант вянет, руки опускаются, вся энергия уходит в бесконечные прения за столиками кафе. Не желая для себя такой участи, Газданов написал в 1930 году Горькому, что, наверное, хотел бы уехать в СССР, так как эмигрантская жизнь гнетет его своей бесцельностью.
Он послал вместе с письмом «Вечер у Клэр», книгу, которая лишь отчасти соответствовала его собственным литературным взглядам. Горький нашел, что роман Газданова говорит о его одаренности и о приверженности автора традициям русской психологической прозы. Скорее всего он был прав. Утверждая, что для него мертва литература, создаваемая стариками (например, Буниным, чей пластичный, исключительно богатый оттенками образ мира вызывает мысль о «стилистической беспомощности», и только), Газданов с первых же страниц следовал преимущественно бунинскому образцу. Он создал лирическое повествование с едва намеченным сюжетом, когда чувства и мимолетные реакции героев намного существеннее, чем происходящие в их жизни события, а недавнее прошлое — ужас Гражданской войны, утрата России, тяжелые душевные травмы — оказывается невозможно преодолеть. Персонажи Газданова мучаются своей бездомностью, которая то и дело о себе напоминает, становясь навязчивым душевным комплексом.
Они лишены выстроенности, цельности, которая обязательно отличает бунинского героя и в минуты эмоционального озарения, и в ситуации, когда порывы души оказываются неожиданными для него самого. «Никакими усилиями, — признается газдановский рассказчик, — я не могу вдруг охватить и почувствовать ту бесконечную последовательность мыслей, впечатлений и ощущений, совокупность которых возникает в моей памяти как ряд теней, отраженных в смутном и жидком зеркале позднего воображения». То же самое могли бы о себе сказать все, кто появляется на страницах «Вечера у Клэр». И, за вычетом особенностей зеркала, — бунинское не бывает замутненным, — сам этот ряд теней, образующих странную, но все-таки неразрушимую совокупность, предстает, по существу, тем же самым художественным ходом, который использован в «Жизни Арсеньева», уже печатавшейся, когда Газданов писал свой первый роман.
Дело здесь не в подражании, а в созвучии, в душевной настроенности, которая у Газданова оказалась преимущественно бунинской, как бы к этому совпадению ни относился он сам. О другом своем романе, о «Полете», который перед войной начали печатать «Русские записки», не успев довести публикацию до конца, Газданов писал одному французскому издателю, что это, строго говоря, не роман, «это внутренняя психологическая последовательность разных жизней, остановленная слепым вмешательством внешней силы». И опять непроизвольные бунинские отголоски оказывались очевидными: ведь в точности по этому же принципу построены и роман об Арсеньеве, оказавшийся, собственно, не романом, не автобиографией, а какой-то совсем новой повествовательной формой, и «Темные аллеи», которые не сборник рассказов, а книга с неочевидным, но строго выдержанным внутренним сюжетом. Только для Бунина никакое вмешательство извне не может остановить движение душевной жизни. А Газданова интересовало как раз ее замирание как итог непереносимых внешних потрясений.
В этом смысле он, конечно, писатель новой формации, близкий скорее европейским модернистам, чем последним русским классикам, Шмелеву, Куприну, даже Бунину, для которого святыней оставался Толстой. Критики сразу заговорили о влиянии Пруста, хотя Газданов твердил, что, начиная писать, еще не был знаком с его книгами. Но, когда он излагал свои представления о том, что такое большая проза, соотнесение с Прустом, провоцируемое его рассказами и романами — с присущими им тонкими, как бы случайными ассоциациями, с небрежностью фабулы, которая и не нужна, поскольку всего важнее точное, подробное описание впечатлений, — делалось неизбежным. «Мне кажется, — писал Газданов, — что искусство становится настоящим тогда, когда ему удается передать ряд эмоциональных колебаний, которые составляют историю человеческой жизни и по богатству которых определяется в каждом отдельном случае большая или меньшая индивидуальность». Областью логических выводов, этой «детской игрой разума», надо пожертвовать, чтобы вступили в действие «силы иного, психологического порядка — или беспорядка — вещей».
Для русской традиции такие установки были чересчур новы. О Газданове, признавая его талантливость, отзывались как о беззаконной комете, сожалея, что он растрачивает свое дарование впустую. Ходасевич написал о его рассказе «Бомбей», что это литература ни о чем: автор демонстрирует завидное владение приемами, однако проза, лишенная серьезного содержания, — нонсенс. Вейдле находил у Газданова нечто дорациональное, сугубо чувственное, а стало быть, какую-то последнюю правду о человеке, и все-таки ему тоже казалось, что этого недостаточно, чтобы всерьез говорить о крупном явлении. Точнее остальных прочел Газданова Адамович: «Он рассказывает о тихом помешательстве, овладевшем жизнью, о неразберихе в поступках, о путанице в страстях и стремлениях, о призрачности того, что мы называем личностью, о том, наконец, что „все течет“ и только расстроенное человеческое воображение находит в этом стихийном потоке источник, русло и даже цель».
Это наблюдение было сделано еще до того, как появились «Ночные дороги», роман, который Газданов писал перед войной; полностью он напечатал книгу в 1952-м в Нью-Йорке. Назвать ее романом можно, разумеется, лишь с большой долей условности. Для ценивших литературу прежде всего в качестве документа по истории современности «Ночные дороги» представляли самый прямой интерес. Ведь они легко воспринимаются как дневник парижского таксиста, которому реальность предстает в грубых, отталкивающих обликах: изнанка, дно, подполье, «печальное пространство» обыденной жизни. Нескрываемо автобиографический герой раз за разом соприкасается со множеством «вещей, о которых человек не должен никогда думать, потому что за ними идет отчаяние, сумасшедший дом или смерть». У него одно и то же устойчивое чувство: так до самого конца ему и пребывать в «безнадежном сплетении улиц, на мостовых враждебного города, среди проституток и пьяниц, мутно возникающих передо мной сквозь легкий и всюду меня преследующий запах тления». Так и не вырваться за пределы «почти всегдашнего полубредового состояния», не вернуть хотя бы слабые напоминания, что ведь когда-то была в его жизни Россия и мир воспринимался совсем по-другому.
Газдановские рукописи и заметки, которые после смерти писателя попали в Америку, содержат прямые упоминания одного крупного явления французской литературы, предуказавшего тему и отчасти стилистику «Ночных дорог». Это знаменитый роман Луи Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи», который появился в 1932-м. Два года спустя нелегально издал «Тропик Рака» Генри Миллер, а Газданов как бы дописал трилогию, хотя дело тут не во влияниях или осознанных заимствованиях. Просто все три писателя открыли Париж, которого в литературе еще не было, и нашли примерно одинаковый сюжет: по собственному выбору или волей обстоятельств герой оказывается там, где жизнь едва отличима от смерти, или, цитируя Газданова, рядом с «теми, кому недолго осталось жить и не стоило питать несбыточные иллюзии». После таких странствий — а все три книги относятся к той литературе, которую затем назовут «романом экзистенциального приключения», — всеподавляющим становится чувство, что культура безнадежно разошлась с реальностью, а значит, уже никакого содержания не заключают в себе былые верования, традиционные поэтические символы и мифы. Человек, увидевший Париж, каков он на самом деле, воспринимает риторику высокой литературы как непроизвольную или осознанную ложь, зная, что ничего нет общего между «симфонией мира», созданной поэтами, и жизнью, тлеющей среди заваленных отбросами дворов, на свалке, куда собираются клошары, в гостиницах для путан, в кафе, где сидят морфинисты, и шоферских бистро вроде хорошо известного Газданову «Алансона» напротив станции метро «Монпарнас».
«Симфония» прежде звучала и у Газданова, в первых его рассказах, в «Истории одного путешествия», напечатанной за пять лет до «Ночных дорог». Там герой, очутившийся в эмиграции и попавший на берега Сены, с жадностью впитывает в себя «бесконечно смещающиеся световые фары фонарей… ни на секунду не прекращающееся движение, точно ритм сказочного, огромного и сверкающего мира, возникшего в чьем-то блистательном воображении и чудесно расцветающего сейчас здесь, перед его глазами, под яркими музыкальными флагами… неповторимо тающий, как ежеминутно являющееся воспоминание, воздух». Все это оборвалось, когда Володя впервые прошелся по легендарному Монпарнасу, увидев опустившихся и гибнущих. Возникло чувство, что Париж до бесконечности многолик, этим и привораживает.