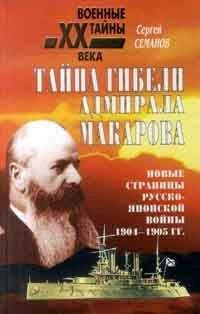Ольга Елисеева - Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века
Сказанное напрямую касается Ляпкина-Тяпкина, олицетворяющего уездную юстицию во всей ее слепоте. Этот персонаж далеко не так прозрачен, как представляется современному читателю-зрителю. Кажется, что проще и традиционнее? Судья-взяточник подвергался осмеянию во все времена. Однако Аммос Федорович несет на себе печать предшествующего либерального царствования Александра I и в николаевские времена даже мог быть назван «тяжким наследием». Недаром Гоголь сравнивал его со старыми часами, «которые прежде шипят, а потом уже бьют». Кстати, часы — один из постоянных масонских символов, олицетворявший быстротекущее время. В данном случае оно не на стороне судьи, но стрелки безмолвно пройдут круг, и механизм заиграет снова.
Он — «человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен». Кроме того, «охотник большой на догадки». Подробнее автор сказать не мог. Разглядыванием символов и угадыванием смыслов специально занимались в ложах масоны низших степеней, иногда они собирались именно для того, чтобы предаться дешифровке узора ковров или гравюр.
О характере и направлении «вольнодумства» судьи Гоголь сообщает устами Городничего: «Вы в Бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите… О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются… В ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было».
Для современников было понятно, какой тип служащего нарисован. До запрета масонства в России 11 августа 1822 года многие ложи были наводнены так называемыми масонскими толпами — уже и не профанами, но еще и не серьезными братьями, готовыми к самоуглубленной работе. Мелкими служащими и офицерами, которых привлекала не столько таинственность, сколько возможность в неофициальной обстановке встретиться с собственными начальниками, уже далеко продвинувшимися по лестнице посвящений, завязать нужные знакомства, найти покровительство…
После запрета такие люди дали подписку не участвовать ни в каких тайных организациях. Остепенились. Продолжали службу. «Представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения начальства», — рекомендуется лжеревизору Ляпкин-Тяпкин. Однако щербинка, нанесенная их дотоле незамутненному мировоззрению, у многих осталась.
Если бы современный актер, играющий Ляпкина-Тяпкина, показался на сцене с масонскими запонками или соответствующей булавкой для галстука, эти предметы только подчеркнули бы туманные отсылки в авторском тексте. В реальной жизни с бывшими братьями происходили комичные, прямо-таки гоголевские сценки, показывавшие, как опасно было для них расслабляться. Мемуаристка М. Ф. Каменская рассказала, как в начале 1830-х годов едва не сорвалось сватовство ее знакомого инженерного офицера Д. Н. Булгакова к дочери профессора А. Е. Егорова: «Самодур Егоров чуть было Булгакова за дверь не выпроводил… За то что он раз, обедая у них, положил около своего прибора крестом вилку с ножом». Этот знак применяли во время орденских трапез. Возможно, Булгаков хотел узнать, не имеет ли дело с собратом. А возможно, как считала мемуаристка, у Егоровых просто не было подставок «Заметил это на грех Алексей Егорович и на стену полез. „Что бы я, — говорит, — русский человек, я, профессор Егоров, дочь свою за масона выдал! Да этому никогда не бывать“»[461]. Папашу насилу убедили, что все случившееся — недоразумение.
Ляпкин-Тяпкин очень далек от идеала истинного адепта — нечист на руку, развратник. Да и безверие отнюдь не поощрялось. Его образ носит черты явной деградации: раньше интересовался сотворением мира, теперь только травит зайцев. Прямая дорога к будущему чеховскому «Ионычу» — потерял связь с общественной жизнью, погряз в обыденности.
Среди полотен В. Л. Боровиковского есть портреты семьи Дубовицких. В екатерининское время отец — Петр Николаевич, участник войн с Турцией, подавления Пугачевщины, предводитель дворянства Скопинского уезда Рязанской губернии. Его супруга Надежда Ивановна из касимовских дворян. Достойные представители своего слоя. Их сын — Александр Петрович на картине держит в руках кривой охотничий нож острием к зрителю и срезает свежую ветку с осины, точно отсекает себя от родового древа. Он служил в Преображенском полку, имел чин подполковника, но вышел в отставку «без мундира», для чего следовало набедокурить. Причиной могло стать не просто его увлечение тайными науками — за это не карали, — а принадлежность к масонским управляющим структурам. Он, занимавшийся «всемирной» миссионерской деятельностью, создал ложу «Внутренних поклонников Господних». После запрещения ордена поселился в Москве, где продолжал собирать вокруг себя единомышленников. Был отправлен на покаяние сначала в Кирилло-Белозерский монастырь, затем в Саровскую пустынь и так на протяжении десяти лет переводился из обители в обитель. Только в 1842 году его взял на поруки сын Петр Александрович, ставший известным хирургом, военно-медицинским инспектором и профессором[462].
Создается впечатление, что сустав дворянской жизни в начале XIX века был вывихнут, потом искусственно вправлен, но не сросся, ведь потомки профессора Дубовицкого уже во времена Александра II востребовали тех самых знаний, к которым не прикасался отец и в которых не раскаялся дед. Тридцать лет николаевского царствования были временем, когда образованные сословия русского общества удерживались свыше от разного рода «соблазнов» и подспудно были этим недовольны. Недаром Гоголь, избравший для себя религиозные истины, уже в «Мертвых душах» показал страшную картину: по тихой русской глубинке ездит дьявол и заключает договоры о продаже душ.
Несмотря на запрет, ложи в провинции действовали и в 40-х, и даже кое-где в 50-х годах XIX века. Известны собрания в Нижнем Новгороде, Твери, Вологде, Симбирске, Саратове, Иркутске[463]. Согласно некоторым рассказам, молодой чиновник, несопричастный братству, которым руководило губернское начальство, не мог получить место. Симбирский предводитель дворянства князь М. П. Баратаев в лучших хлестаковских традициях заявлял, что его приказ не брать на службу такого-то и такого-то — «закон» и для попечителя Казанского учебного округа, и даже для министра просвещения, поскольку оба — подчиненные ему масоны. «Эк куда хватил!» — сказал бы Сквозник-Дмухановский. Полагаем, что на пороге у министра бахвал Баратаев «умалился бы до минимума», но в родной губернии слыл человеком могущественным[464].
Городок, описанный в «Ревизоре», располагается где-то под Костромой или Саратовом. А Хлестаков, прежде чем попасть в берлогу непуганых казнокрадов, прокутился в Пензе. Места близкие. Встретить там в середине 1830-х годов «вольнодумного» чиновника, бывшего члена братства, было нетрудно.
«Француз гадит»Самый безобидный персонаж пьесы — Почтмейстер. Так, во всяком случае, думает сегодняшний зритель. Шпекин комичнее самой комедии. Однако именно за его худенькими плечиками вырисовывается силуэт самого грозного ведомства той поры. А деятельность по вскрытию писем превращает Ивана Кузьмича в фигуру опасную, непредсказуемую, способную навредить. И только будучи «простодушным до наивности человеком», он не наживается на извлеченной из конвертов информации.
«…Смерть люблю узнавать, что есть нового на свете, — говорит Почтмейстер на предложение Городничего просматривать эпистолы в поисках сведений о ревизоре. — Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь… а назидательность какая… Есть прекрасные места… с большим, с большим чувством».
Впрочем, все исключительно для пользы службы. «Нельзя ли вам… всякое письмо… знаете, эдак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения? — спрашивает Городничий. — …Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте». Характерен ответ Шпекина: «Знаю, знаю… Этому не учите. Это я делаю…»
Практически все второе явление так плотно нашпиговано отсылками либо к реальным событиям, либо к распространенным журнальным публикациям того времени, что почти каждое слово нуждается в пояснении. От этого еще смешнее и еще грустнее.
Самое безобидное замечание Почтмейстера: «Война с турками будет. Это все француз гадит». Вроде бы пальцем в небо. Но так уж вышло, что при любом потрясении русское общество второй четверти XIX века ожидало войны с Турцией. Два победоносных конфликта случилось при Екатерине II, было выиграно столкновение буквально накануне наполеоновского нашествия, в 1811 году. Затем резней в Греции Порта долго нервировала соседей на рубеже 1820-х годов. Тогда Россия покровительствовала греческим беженцам, помогала этеристам, воевавшим за освобождение Эллады, но сама непосредственно не вмешивалась. Наконец, в 1828 году, после победы в Наваринском сражении (помните, у Чичикова был фрак «наваринского пламени с дымом»?) началась новая удачная кампания. Мир, заключенный в 1829 году, считался непрочным, именно потому, что по отношению к Турции возродилось европейское покровительство: Порту считали противовесом России — страной, всегда готовой отвлечь на себя ее силы. После Французской революции 1830 года особенно заметны были усилия Парижа, отсюда и «француз гадит». Хотя направляющей стороной являлась Англия, превратившаяся после разгрома Наполеона в главную доминанту на континенте.