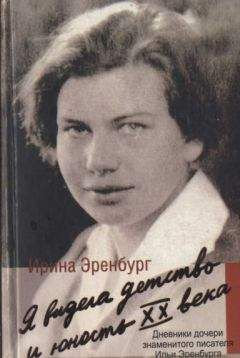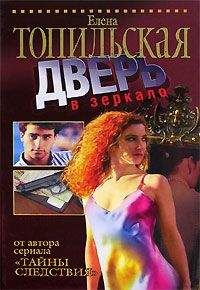Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
Автор письма предполагает существование в собственной творческой жизни и жизни адресатки общих проблем — «Неужели и твоя такая же доля?» (7) — и ждет солидарного взаимопонимания и соучастия:
Переписка очень кстати в моем теперешнем образе жизни. Только держись, друг мой, не отставай, а за мной дело не станет. Дружба, прекрасное чувство! у меня были прелестные друзья — то есть прелестные, как ты, в полном смысле прелестные, умные, чувствительные, с чистым и нежным вкусом. Я жила как в раю, и вдруг откуда ни возьмись — злые обстоятельства все перевернули по-своему — друзей моих всех забросили на край света: я разорилась в пух и прах, как Наполеон под Березино, — меня бедную вытолкали из заколдованного круга. <…> Что же мне делать? — ты угадала: я точно вкарабкалась, вползла и зажила в поднебесьи, — двор об двор с твоею маленькой усадьбой (7).
В том, как изображаются адресатки обоих писем, просматривается идея существования женского творческого «заколдованного круга», своего рода особого женского поселения в поэтическом поднебесье.
Сознание или чувство групповой идентичности вообще, как уже неоднократно отмечалось в этой работе, характерно для женщин: размышляя о себе, они не могут не помнить о своей принадлежности к «женскому миру» и не учитывать те представления о женственном, которые существуют в доминантной культуре. Сюзанн Фридман говорит о напряжении, которое возникает между чувством общей, долевой идентичности и чувством собственной уникальности[443].
Однако у Зражевской оно кажется несколько ослабленным, на мой взгляд — возможно, потому, что она трансформирует или конкретизирует понятие той группы, в которую себя вписывает: «мы — женщины» уточняется как «мы — творческие женщины», «мы — писательницы».
Эта идея развивается и через литературно-критическую часть второго письма, где упоминаются имена других женщин-литераторов и доброжелательно рецензируется их творчество. Все это говорит об усилиях Зражевской выделить в литературе некую специфическую группу женщин-писательниц, рассмотреть ее как особое, цельное единство. Заметим, кстати, что подобные мысли она развивает и в другой статье, где предлагает женщинам-литераторам «больше не действовать вразброд», а «собраться всем разом» и издавать собственный журнал[444]. Мысль об общем круге, о писательском сестринстве чрезвычайно важна для Зражевской.
Но вернемся к «Зверинцу». В первом письме, обращаясь к своей «творческой матери» В. И. Бакуниной, Зражевская замечает: «После долгих поисков — наконец я отыскала вас и спешу представить краткий очерк моему житью» (1), то есть первая часть «Зверинца» содержит краткий автобиографический очерк — редуцированный «роман воспитания», где главные этапы становления женщины-писательницы представлены через собственный опыт: раннее пробуждение непреодолимого желания писать, запрет родителей и его нарушение, советы и предостережения мужского учителя и одновременно «цензора» (В. А. Жуковского, который в случае Зражевской выполняет ту же функцию, что Плетнев для Соханской), учеба, самообразование и самосовершенствование, женская сестринская поддержка, трудности и препятствия, возникающие при выходе в «мужской мир» литературной конкуренции и рынка.
Предложенный Зражевской вариант жизнеописания ориентируется на определенные образцы.
Е. Н. Грачева, исследуя тексты подобного рода в статье «Представление о детстве поэта на материале жизнеописаний конца XVII — начала XIX в.», выделяет несколько повторяющихся «модельных» мотивов, структурирующих образ героя: уже в раннем детстве его отличает особая энергия, острота чувств, «восприимчивость души», склонность к мечтательности и фантазированию, страсть к наукам или — чаще — к чтению, к искусствам, усиленные занятия даже в часы отдыха[445]. Важным сюжетным мотивом является описание момента осознания своего поэтического призвания, который «может быть разложен на три составляющие: чтение (слушание рассказа) — воодушевление — осознание своего пути, описываемое как желание последовать»[446]. Осознание призвания часто изображалось как «чудо», как нечто вроде божественного откровения. В 1830-е годы был создан и своего рода образец жизнеописания женщины-поэта в статье А. Никитенко об Елизавете Кульман (первая публикация — в «Библиотеке для чтения» в 1835 году)[447], где развивалась такая биографическая парадигма: «юная, чистая гениальная душа, живущая в мире фантазии, — упорство и трудолюбие — огромная роль наставника и учителя-мужчины — столкновение с жизнью — ранняя гибель».
Большая часть этих мотивов, как можно было видеть, присутствует и у Зражевской, хотя некоторые из них заметно трансформированы. Но наряду с «общими местами» в ее автобиографическом очерке появляются и совершенно оригинальные мотивы, связанные, как мне представляется, прежде всего с преодолением сложившихся к тому времени мифов о женственности и гендерных стереотипов, в том числе в отношении к женщине-литератору.
Во-первых, свое писательство она изображает не только как «непреодолимый зов природы», но и как сознательный выбор: «я создала себе другую судьбу» (2) (очень важна и неожиданна здесь активная грамматическая конструкция, где Я — субъект действия, а судьба — объект). Впрочем, одновременно сохраняется в измененном виде и мотив «чуда», откровения: в рассказе о том, как императрица Мария Федоровна, которой Зражевская тайно послала роман — «первый детский опыт»[448], одобрила и наградила посвященное ей произведение. Это участие высокой покровительницы в ее судьбе изображается повествовательницей как своего рода благословение, если не Благовещение.
Роль мужского наставника и учителя не совсем обычна. В. А. Жуковский, с которым юная писательница «завела переписку» (заметим, «я завела с ним переписку» (2), а не «он со мной»), в тексте прежде всего предостерегает и отговаривает от опасного и трудного для женщины выбора:
В. А. Жуковский отвечал мне, «что авторство выводит женщин из их тихого круга, что все женщины-писательницы составляют исключение и очень дорого заплатили за блестящую славу свою, что это нечто такое, что должно иметь влияние на целую жизнь мою; что с авторством соединены тысячи неприятностей, что я должна изучать язык, скоплять сведения, собственные наблюдения в природе и обществе, только тогда можно знать, о чем писать и как писать, и все это требует больших трудов» (3).
Но, почтительно выслушав эти предупреждения, Зражевская идет наперекор им:
поверите ли, вашу крестницу[449] нисколько не испугало это, не переменило мыслей ее, я <…> училась дни и ночи, с завязанными глазами опрометью мчалась вперед, не боясь ни камней, ни ям. Иногда толчки останавливали меня на всем бегу, я задумывалась, но не упадала духом (3).
Свое писательство она изображает как своего рода ремесло, профессию; это не грезы наяву, не записывание под диктовку божественного откровения, а работа, производство текстов, при этом она употребляет такие выражения: «я написала роман» (2), «я издала „Письма“» (3), «ожидаю из Цензуры еще двух рукописей» (3); «хочется поддержать литературную известность» (4).
Но, пожалуй, наиболее интересно в кратком жизнеописании Зражевской то, насколько последовательно и настойчиво она подчеркивает и выделяет ту роль, которую в ее писательском становлении сыграли женщины (не забудем, что адресована автобиография женщине, и точка зрения адресата моделируется как доброжелательно-понимающая).
Первые творческие семена посеяны женщиной — Maman. Благословение на писательство Зражевская получает от женщины — императрицы Марии Федоровны. Начиная свою писательскую карьеру, она встречает еще одну любительницу «марать бумагу», и дух соревновательности и критической взаимооценки этого маленького женского «литературного кружка» стимулирует ее дальнейшие писательские усилия.
Тут как-то нечаянно я познакомилась с одною барыней, любительницей прекрасного в слове: это была г-жа В…ъ, урожденная княжна Х…ва. Познакомясь, мы взапуски марали бумагу; она не щадила меня, критиковала, смеялась, исписала поля моих первых тетрадей своими примечаниями — и как бы вы думали? — она не уморила во мне любовь к литературе, напротив, это еще пуще подстрекало меня (3).
И в первом, и во втором письме женщины предстают как подруги, коллеги, везде развивается идея не конкуренции, а солидарности.
Но самое главное отличие писательской автобиографии Зражевской — это огромное чувство самоуверенности и представление себя в качестве самостоятельно и активно действующего субъекта и профессиональной писательницы.