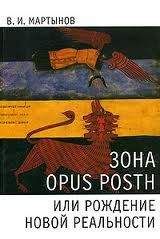Маремьяна Голубкова - Мать Печора (Трилогия)
Но вот уже сумерки пали на реку. Видим мы только край песчаного берега да воду без конца и края. Хорошо, что у Саши в лодке головастый кормщик Спиридон сидел. Говорит он нам:
- Тут сейчас до самого Сарамбая мель пойдет. Давайте дальше от берега.
И верно: далеконько мы от берега отбились, а везде веслом дно хватаем. Вот мы и за полверсты от берега, середина реки, а везде мель по-прежнему. Где веслом, где бродом гоним мы лодки. И видим - впереди нас на воде будто снежуры набило. Сливалась она отовсюду и сбилась на большой мели. Пока через эту мель пробивались, и лодки и сапоги у нас как мыльной пеной покрылись.
- Теперь налево, други, берите, - командует Спиридон.
Налево ехать было не просто. Сарамбай, как зверь, на волю вырвался. Не один пот со всех нас сошел, пока одолели мы течение и приткнулись к песку в самом устье Сарамбая. В темноте поставили мы палатку где-то в кустах. Чувствую я, что меня в жар кинуло. Легла я. А семья моя зажгла лампу, поела холодной гусятины, и долго еще я слышала, как Спиридон наговориться торопился. Видно, долго ему пришлось молчать: старуха не поймет - стара, а сын - недоросток.
А мне Спиридоновы речи запомнились.
- Вот вы меня, други, - говорил Спиридон, - может, и осудите. Скажете: старик, а рот нараспашку, язык за плечо. А я все равно поговорю.
Я так думаю - больно хорошо мы перед войной зажили. Экое ведь дело замыслили: такую жизнь устроить, что нашим отцам и во сне не снилась. Бывало, дом ставить задумаешь - и то годы вздыхаешь, да годы деньги собираешь, да годы лес рубишь, да когда, наконец, стены выводить возьмешься. Бывало и так, что мужик сваи под дом вкопает, а только внуки за крышу примутся. Пока крышей покроют, а фундамент подгнил.
А тут за такой дом взялись! Много ли пятилеток прошло, а мы уже и стены вывели, и под крышу подвели.
Деревня наша из веков богу молилась, с чертом водилась. А колхозы ей жизнь-обнову принесли. Как тундра ягодами, была до войны богата радостью жизнь. И у всех была одна заповедь: живи, работай да радуйся.
Оно конешно, старый век не враз с грядки валится. Были такие, что и морщились: крута езда не каждому в привычку. Теперь только увидели, что мешкать-то нам и нельзя было...
Леонтьев не вытерпел: любит он печорскую речь вот и подзадоривает Спиридона:
- Вот ты, Спиридон, про правду толкуешь. А что, по-твоему, правдой-то зовут? И где она зачин берет? И почему ее прежде не видно было?
- Уж раз спросил, любезный, не обессудь, отвечу. Я и рад молчать, да не могу начать. А как раз о чем о чем, а о правде у меня не один год думано. Вот и слушай.
Все бывальщины про дела человечьи про одно поют, про одно толкуют: как шло на земле ума и силы единоборство.
Все горе человечье идет от этого извечного спора: кто будет верховодить, ум или сила. И спор этот до наших времен решен не был, пока люди в судьбу верили, ей покорялись да поклонялись, как я весь свой век.
Вот и сменил я веру - и руки у меня теперь развязаны, мозгам простор. Когда сила верховодила, на что она ни глянет - все рушит да изъянит. А под началом ума у нее золотые руки отросли. И все, к чему они притронутся, вверх идет.
- Умен ты, Спиридон, - говорит Леонтьев. Он всю речь старика записал.
- А ты думал, что ум у меня черт съел? - отвечает Спиридон.
Не вытерпела я, поднялась.
- Не о том ты говоришь, Спиридон. У простых людей трудовых ум да сила всегда в согласии жили. И прежде работный народ про то песни пел и сказки складывал. Не ум да сила, а Правда да Кривда воевали меж собой. И вот на нашей советской земле Правда Кривду побила. По другим землям Кривда и сейчас живет, да только и там недолог ее век, на краю могилы стоит.
- Ну, землячка, - говорит Спиридон, - отделала ты меня, живого места не оставила. Весь век я растил дерево, а ты дунула - и все листье облетело.
- Новое вырастет, - говорю.
5
Не знаю я, как складывают свои песни письменные люди. А причитания мои по сынам любимым огненными буквами написаны на сердце: живут они моим гневом. Материнское горе подняло меня на ноги и не давала мне покоя, пока я все его до последней искорки не выложила в свои причитания по сыновьям.
Серым тяжелым камнем лежала на сердце моя материнская боль. Разжигался тот камень, накалялась боль докрасна, и вот в сердце что-то расплавится - и потекут слезы, польются слова. Тогда и родились мои новые воинские плачи.
Хоть и простые в плачах слова, а надо их откуда-то взять. Запаслась я с самой ранней поры драгоценной шелковой кошелкой. Полвека собирала я в ту кошелку отборные слова. Полвека берегла я верные глаза, хранила чуткие уши, плодила крепкую думу, набирала живую речь. И когда взялась я складывать плачи по любимым сыновьям да проклятья свои материнские рушить на голову Гитлеру - было где взять мне мысль и слово: врагам на устрашенье, себе на утешенье, добрым людям на поддержку, Родине на помощь, сыновьям на вечную память.
Искала я в своей шелковой кошелке дорогие слова. Говорила я в своих плачах, что славной смертью сыны мои померли. И за то быть им во живых вовеки.
Знала я, что успокоюсь только в тот день и час, когда все мы, от стара и до мала, будем праздновать победу над Гитлером. А что этот день придет, не могла я не верить. Потому я верила, что против фашистов вся Советская Россия поднялась. За свои короткие полвека и то не однажды я видела: кто с Россией ни тягался, в правых не остался. Советская Россия новая это Россия. В ней народ с народом сомкнулись и человек с человеком спаялись.
И не могу я не верить в армию, где бьются такие же твердые люди, как мои сыны - Павел и Андрей Голубковы.
6
Солнце светило по-осеннему. Осветило оно Сарамбай, его крутые бережки.
В первый раз мы тогда увидели, что на тундру упала осень, ясная, тихая, задумчивая. По берегам реки слегла перерослая трава бережина. Потемнел лист подморошечник. На болотах кисля перестоявшие грибы. Где-то за береговым кряжем лебеди кукали.
Стояли мы впятером и любовались. Спиридон показывает нам на решу:
- Смотрите-ка, гости морские пожаловали.
Как раз против устья Сарамбая плыло стадо белух. Плывут они, белые, горбатые, вода через них переливается. На спинах у трех белух сидели детеныши.
- Море близко, - говорит Спиридон. - Сотня верст до моря не наберется.
Саша хотел было стрелять белух. Спиридон отвел дуло карабина и говорит:
- Это, паренек, не по закону. Зря добро загубишь. Утонет белуха - ни тебе пользы, ни нам радости.
Вытащили мы одну лодку на берег да тут и оставили: везти вверх третью лодку нам было неподсильно.
Сарамбай, видно, после дождей разъярился. Течение в реке огненное. Вода ключом кипит и круги вертит во все стороны.
- Ох, и хватим мы горького до слез! - говорит Леонтьев Сашке. - Это тебе не Коротайка. Все плакались, что тихо несет, а здесь ты не рад будешь, что и реки текут.
Встал он на корму в свою лодку, взял в руки свой шест, немногим хорея покороче, и показывает Саше, как вести лодку против течения.
Долго не давалась эта наука Саше. Хоть он и по словам Леонтьева все делает, а лодка его не слушает.
А Спиридон тут как тут.
- Эх, паренек, сила без сноровки только мучит. К силе нужны еще ухватка и смыселок.
Кое-как, с грехом пополам, вперед поплыли: не парохода же ждать. Леонтьев ведет лодку, как в игру играет, а Саша через силу за ним тянется.
В тот день лодки прошли не больше пяти километров. А мы берегом - Ия Николаевна, Спиридон да я - за весь день и пятьдесят обегали.
Где какую ручьевинку встретим - вверх по ней идем: все осыпи оглядим, все сопочки обшарим, все камешки ощупаем.
- Мы с тобой будто тоже понимаем что-то, - говорю я Спиридону.
А Спиридон головой качает:
- В карты играем, козырей не знаем.
А сам все норовит вперед нас забежать. Я его останавливаю:
- Ты чего впереди иглы, нитка, суешься?
- А как не соваться-то? Глядишь, первый нефть найду. Говорят: переднему - зверек, а заднему следок достается.
Вечером сошлись мы в палатке с нашими бурлаками, все стонем: у нас ноги болят, у них - руки.
- Вот что, - говорит Ия Николаевна Леонтьеву и Саше, - пока руки у вас шевелятся, надо плыть вперед. Руки откажут - ногами пойдем. Котомки на спины - и опять вперед. Той порой, может быть, олени подойдут, тогда поедем.
Никто не спорил: каждый знал, за что брался, когда в тундру шел.
На заре выпал маленький, частый дождь. А под дождь хорошо спится. Пошумливает он о палатку, будто тебе кто-то шепотом на ухо разговор ведет. Поднялись на этот раз позже обычного.
Мужчины наши снова в лодку садятся, а я за начальницей да за Спиридоном плетусь.
Идти вдоль берега тоже не больно сладко: то в кусты такие заскочишь, что не знаешь, как оттуда и выцарапаться; то в глину забредешь и сапоги там оставишь, а пока достанешь, вся в ней упачкаешься; то на ручеек выйдешь да пока брод найдешь - не одну версту ногами вымесишь.
Зовет нас Спиридон и показывает на берег.