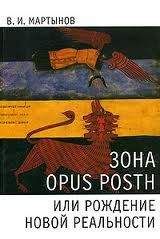Маремьяна Голубкова - Мать Печора (Трилогия)
Спиридон зорко посмотрел на Сашу.
- Небось на войне был?
- На войне.
Выпил Спиридон еще чарку и говорит:
- Вот что, гостюшко: раз ты сюда в добром здравии пожаловал, без видимого увечья, не судьба тебя вывезла. Не она тебя, а ты ее за уши вытащил.
- Это как же так?
- А вот так. Слушай, что говорю. Мне вон год назад шесть десятков стукнуло, и веру свою я не спуста сменил, а жизнью научен...
Начали мы Спиридона упрашивать:
- Расскажите, Спиридон Данилович, как так веру сменили.
Спиридон оглядел всех, бороду огладил и говорит:
- Ну, слушайте. Только уговор: не тпрукать, не нукать...
3
- На весь свет про нашу мать Печору слава идет. Говорят люди: мать Печора - золотое дно. Может, и привирают люди, а все же похоже, что дно у нашей поилицы-кормилицы светлым янтарем выстлано, а в воде меж серебряной тины рыба с золотой чешуей ходит. Тони наши уловисты. Рыба редких сортов, и жирна, и икряниста... Пелядь - рыба отменная, нельма - еще слаще. Омуля нашего и жевать не надо: сам во рту, как масло, истает. Что чир, что сиг, что сельдь, что хариус, - любого к обеду подать не стыдно. С ветрами рыба подойдет - вода зыблется.
Леса наши любой зверь не обходит, бобер - и тот ухранился...
Иные судачат, что будто медведя стало мало. А вон перед самой войной такой случай был.
Поехала Настасья Степановна из деревни Корольки пожни чистить. И девчонку свою взяла двенадцати годов. Чуть отплыли, видят - через Печору олень плывет.
"Греби-ко, девка, поближе", - велит Настасья.
А как подплыли - распознали, что не олень это, а медведь. Как бросится медведь на лодку!.. Хорошо, что он с носу пополз, обеими лапами ровнехонько уцепился, а то бы лодку враз опрокинул. Не сплоховала Настасья, схватила топоришко, замахнулась на медведя, а ударила-то мимо. Медведь-то попался с понятием, отцепился от лодки и прочь поплыл.
Тут уж и Настасью задор забрал. Схватила она мачту от паруска - и ну ему ставить кресты да медали, кресты да медали. Струсил медведь, прочь плывет да ревет, да головой трясет. А Настасья на девчонку орет:
"Греби ближе!.."
Медведь к берегу - и лодка за ним, медведь на середину - и лодка тоже. Всю голову ему Настасья исколошматила. А пока била - десять верст их пронесло. Вот медведь и не выдержал, тонуть начал. А Настасья за шкуру уцепилась, не дает тонуть. К берегу его приплавила на отмелое место да для случая еще раз двадцать палицей своей медведя окрестила. А потом мужиков с луга кликнула, они на сухой песок его вытащили и шкуру сняли.
Про птицу я уж и не говорю. Птица в наших краях и летовки и зимовки проводит. Весной выйдешь - от чухаря по лесу стон стоит: глухари свою любовь справляют. Куроптя иной год с погодами как снегу нанесет, охотники наши своей добыче счет на тысячи пар ведут. И для всякой залетной птицы для уток, для гусей, лебедей - лето наше непременно. Хорошо им в подсолнечных землях, а все же на лето к нам в гости жалуют: здесь их родина. В кормежке им у нас довольство: рыбы густо, ягод - что грязи в мокрое лето; птенчикам птичьим - покой дорогой.
Я так сужу, что красовитей нашей Печоры во всем свете другой реку нету. Вокруг нас куда ни пойди, куда ни глянь - глаза полны и душа рада. До теплых мест, до дальних городов пущи несходимые растеклись. Выйди в лес, на озеро: ходишь там - как в гостях гостишь. На березах малым ветром листья колеблются. Пичужка пичужке голос подает. Рябчиков свист в ушах тает. И берег, и лес, и небо в воду опрокинуты. Во глуби озерной облака плывут. Так бы и смотрел на все без сна и без отдыха, да неоглядна та краса.
Зимами у нас и того краше: ни комар к тебе не прильнет, ни в болоте ноги не ознобишь. Каждый угорышек, каждый кустик снегами опушен. Все снега зайцы да лисицы вытропят, белки да горностаи путиками разрисуют. С ружьишком да с собакой ходи по тем тропкам да путикам и вычитывай: какой зверь куда подался, сыт он или голоден, хитер-мудер или прост перед тобой. Лисица вон и хитра, а коли перехитрить ее, никакой в ней хитрости нет. Значит, и она от ружья не уйдет, быть добыче.
Не река, а скатерть-самобранка, везде на ней найдешь питание. И в берегах Печоры золото, серебро и всякая полезность кладами сложены. В горах и государская наживная казна, и рабочим достаток, и нам, печорским бывальцам да живальцам, прибыток. Я и прежде смекал, что земля наша таланиста, да только с ленцой. Старобытные здешние насельники новгородские до чего другого бойки были, а в нутро матери земли глянуть не удосужились.
Век уж такой застойный был, нашей матерью Печорой судьба правила. Оно, конечно, и тогда были люди, против судьбы идти норовили. Отец мне сказывал, что ходил по нашим краям какой-то инженер Антипов, уголь искал. Только нашел - розыски прикрыли. Я мальчишкой был, помню, приезжал к нам другой человек, Сидоровым звали. Михайлом Константиновичем. Он и из купцов, а книжный человек был. Объехал он всю Печору и Ухту. Около угля он не один год хлопотал, одной бумаги сколько извел, а толку не добился. После Сидорова профессор Федоров про уголь кричал, после Федорова инженер Мамонтов... Все на моих глазах прошли, а все без пользы.
Вот как революцию сделали, и к нам молодым ветром подуло. Вскорости приезжает к нам из Москвы одна профессорка, Верой Александровной звать*. Сама молодая, здоровая. Печору нашу шутя переплывет да и обратно воротится. Кричит на нас:
_______________
* По-видимому, это была Вера Александровна Варсонофьева. (Прим. Н. П. Леонтьева).
"У вас, - говорит, - река и так, считай, непроточная, а шевелиться не будете - вовсе тиной зарастет. Надо, - говорит, - вам богачество своей земли множить, не вовсе же она запустела. Нужно, - говорит, - мне по реке Ылыч до Урала добраться, тамошние места попытать".
Поднял я ее по Ылычу до Ягра-Ляги. А она любой камень как земляка встречает, знает, как его звать-прозывать. Принесли мы ей камень - весь в дырках, как перстом истыкан.
"Это, - говорит, - раньше здесь море было. Здесь особенные животины, вроде раков, жили".
Мы что где оприметим, говорим ей. Нашли мы целые глыбы карандашного грифеля, краски. И золото ей показали: еще в старое время оленевод один брал из ручья песок на решето, промывал и золото сдавал за чистые деньги.
А она все для Москвы отписывает, недаром ее главной доглядчицей да доводчицей послали. Все запротоколила и уехала. Не один год она и после этого наведывалась.
- Что, - говорю, - без толку ноги трудишь?
- Будет толк, - отвечает.
- Нет уж, - говорю, - Вера Александровна, видно, от судьбы ни поклона, ни покора не дождаться...
Потом слышу - другой профессор, Чернов, уголь находить начал. Говорят люди: по всем нашим рекам уголь разметан, прямо на свет божий пласты по четыре сажени толщиной выходят.
Всю нашу мать Печору сверху донизу экспедиции обшарили. И тайбола и тундра нонче, как мезенска тропа, затоптаны. Куда заядлые охотники на лыжах да на собаках не езживали, туда профессора на своих на двоих, слышу, бродят. Что в земле тайным лежало, то явным делают. Слышу, перемены круто вершатся, поселки в новых местах, как грибы в урожайный год, растут: Нарьян-Мар, Воркута, Еджит-Кырт, а там уж Нарьян-Мар и городом зовут. Не вытерпел я, поехал в Еджит-Кырт, он от нас поблизку. Перед самой войной это было.
Приехал туда, - с Боярским Бором шахта рядом, - вижу, нашей Печоре никакие это не именины. Всего-то там три шахты, а одну уже закрыли: выработалась, говорят. И домов и людей там негусто. На лесопилке одна пила верещит, да и ту "смех-пила" зовут.
С директором познакомился.
"Чего, - говорю, - замешкался? Взялся строить, дак строй как следует".
"Погоди, Спиридон, - говорит, - все будет: вот бетон будем готовить да капитальные шахты заложим, да то да се".
Махнул я рукой.
"Довольно уж я посулов слыхал, а дела не вижу. По всей Россиюшке Советской работа кипит, а Печору нашу матушку-реку судьба запамятовала..."
Только началась война, остановился у меня в Кожве один инженер-начальник, человек смирный, тихий, обходительный.
"Я, - говорит, - приехал к вам железную дорогу проводить - через Ухту и на Москву".
"Нам бы, - говорю, - какую ни на есть шутейную тропу сюда протоптать, и то бы для нас свет в окне был. Кроме экспедиций, мы пока еще мало чего видывали. Верно, - говорю, - у рек своя судьба есть. И раз у Печоры судьба оставаться на отшибе, то и все труды ваши пойдут занапрасно".
Глянул на меня мой гость смирёный, как на маленького, усмехнулся и немногословно сказал:
"Увидишь, - говорит. - К новому году, - говорит, - в Кожву вашу поезд придет".
А год-то уж за половину перешел. Я тоже усмехаться умею.
"Тогда, - говорю, - видно, мать Печора кверху потечет..."
Живем и оба в свое верим. Он с инженерами своими по лесам мотается, а я рыбку ловлю да зверя смекаю. И слышу - каждый день рядом с Кожвой шум и гром стоит. Людей откуда взялось - тьма-тьмущая привалила!
И до нового года не дошло еще - зовет меня мой квартирант с собой. И своими глазами увидел я, как к ихнему поселку, что давно они рубили да строили, первая машина с вагонами подкатила. И поселок тот станцией Кожвой назвали.