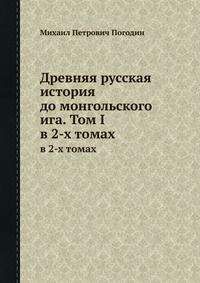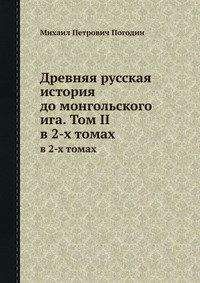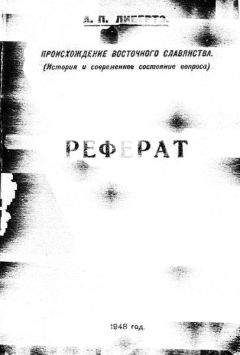Наталия Ильина - Дороги и судьбы
Спокойно. Не распускаться. Взять себя в руки!
Я беру себя в руки и отстукиваю письмо к матери.
"Это так хорошо, мам, что я в Казани! Казань - тишина. Казань возможность думать, работать. Казань дала мне уже то, что я становлюсь приличной стенографисткой. Так что все хорошо, все полезно. Ну, сознаюсь, бывает и одиноко, и скучновато. Каждое воскресенье вижу Юру. Каждый день Виталия и Олега. Но вечерами музыканты заняты, а Юра далеко живет. Они чудесные {276} ребята, прекрасные друзья, но едиными ими не может быть сыт человек. Мы все ведем умные разговоры, а хочется и глупых... Так что видишь, мама, я, как филатовский стебель, не прижилась еще к новой почве. Обрати внимание на роскошное медицинское сравнение. Скоро я, кажется, буду готова сдать кандидатский минимум - уже просто блещу медицинскими терминами!"...
...Лет семь спустя я услыхала от Анны Андреевны Ахматовой, что уединение и скука человеку полезны. Человек остается с собою один на один, без отвлечений, без рассеяний. Никуда от себя не уйдешь, волей-неволей в себя и вглядишься, а такое делать следует. Ахматова добавила с усмешкой: "Иногда возникают мысли".
И мне сразу вспомнилось, что мысль написать роман явилась у меня именно в один из тех казанских тоскливых вечеров... Впрочем, громкое слово "роман" мне тогда и не мерещилось, и я не уверена, позволительно ли назвать мыслью то, что во мне однажды забрезжило... Было примерно так. Сидя за столом, я глядела в черное стекло, в котором, кроме отражения зеленой лампы,- ничего, и воображала за ним эти пустынные улицы, снег на крышах низеньких домов, и в их окнах оранжевый свет, здесь почему-то у всех шелковые оранжевые абажуры, такой у Тарнопольских, такой у Герасимовой, что она делает сейчас, пьет, верно, чай в своей комнате с пузатым комодом... Печально тренькала гитара, кто это играет, не тот ли безногий, что ко мне заглядывал? Он, конечно, потерял ногу на войне, большинство пациентов института - жертвы войны, в свое время им отняли руку или ногу, но вот заболела культя, понадобилась вторая операция... И пришли мне тогда в голову строки Блока: "Да, ночные пути роковые развели нас и вновь свели, и опять мы к тебе, Россия, добрели из чужой земли". От этих строк, как круги по воде, пошли виденья. Я вновь увидела сибирский полустанок, старушку с молоком на перроне, ее вопрос: "Чего ж приехали?", увидела замерший зал, слушающие лица на профсоюзном собрании... И внезапно мне страстно захотелось рассказать, объяснить, почему я, почему мы так стремились в Россию из чужой земли... Этот рассказ, вылившийся затем в роман "Возвращение", я начала писать тремя годами позже, в Москве, а тогда, в Казани, мысль моя, не успев расцвести, была тут же затоптана друзьями. Они темы "о нас" не одобрили. Надо идти вперед, вживаться в здешнюю жизнь, ее осмысливать, а {277} уход в прошлое этот процесс задержит, ему помешает. И еще что-то в этом роде. Намерение рассказать "о нас" было оставлено.
Апрель. Днем пригревало, снег таял, по тротуарам круто идущей вниз улицы Куйбышева мчались, бормоча, ручьи и сверкали на солнце, я впервые видела русскую весну, мое убогое жилье после уличного сияния и света казалось особенно невыносимым. Мной "овладело беспокойство, охота к перемене мест"... Я переписывалась со своими ленинградскими тетками и с дядей Ваней, жившим в Москве, меня звали погостить. Я выпросила у Шулутко десять дней отпуска за свой счет. Матери писала: "...отпуска мне не полагается, ведь я работаю всего два месяца, но наш директор умница, не формалист, пошел мне навстречу..."
Я продала артистке казанской филармонии свое вечернее платье (шелковое, до полу, с открытой спиной), купила билет в жестком вагоне и поехала в Москву. Из письма, написанного в то время матери, я узнаю, что по дороге видела "апрельские черные с кусками снега поля, деревеньки, древний город Муром (слово-то, мама, слово какое!), и все казалось мне близким, и все брало за душу. Но в памяти моей из этого путешествия осталась почему-то лишь станция Черусти. Поезд прибыл туда под вечер, стоял минут пятнадцать, я вышла пройтись. Ничего особенного тут не было, обычные вокзальные строения, невзрачные киоски, чахлые деревья в станционном сквере. Вечер был тих, благостен, пахло весной, и было розово-закатное небо, и внезапно сердце мое дрогнуло при мысли, что я рядом с Москвой, еще каких-то три-четыре часа - и я увижу ее, увижу Москву, да может ли это быть?
***
Дядя Иван Дмитриевич явился на вокзал с моей фотографией, узнать меня не надеялся. И все же дал мне пройти мимо. Я прошла было, но обернулась. Что-то знакомое почудилось мне в мешковатой, глубоко штатской фигуре, что-то напоминающее дядю Шуру, хотя тот роста огромного, этот же среднего. Лицо тоже напоминало дядю Шуру, не чертами, чем-то неуловимым. Я сказала уверенно: "Здравствуй, дядя Ваня!"
Мы ехали в метро, и я восхищалась всеми видными в окно станциями, и особенно сразила меня строгой, элегантной белизной та, где мы вышли: "Дворец Советов". {278} Темный, тогда еще булыжником мощенный Гагаринский переулок, справа и слева ампирные особнячки, это я в самом деле иду по Москве? Одноэтажный старый дом, крыльцо, обитая войлоком дверь, за ней просторная, безлюдная в вечерний поздний час кухня, слабо освещенная лампочкой у потолка, столы под клеенками, керосинки, кастрюли, затем темные закоулки большой коммунальной квартиры. И вот на шаги наши распахивается дверь, я попадаю в объятия седой, полной женщины в очках, которая сразу требует, чтобы я называла ее "тетя Инна" и "ты". Стол, белая скатерть, желтый шелковый абажур, у одной стены диван, у другой - кровать, два зашторенных окна, картины, фотографии, комната просторна, уютна. Меня кормят, меня расспрашивают, дядя Ваня, не в пример дяде Шуре, собеседника видит, к собеседнику внимателен, понимает шутку, хорошо смеется. А с письменного в простенке стола глядят на меня фотографии бабушки и "дядюшки профессора", всю жизнь знакомые, и я ощущаю родственную нежность к дяде Ване и к полной громкоголосой женщине, его жене. Спать меня укладывают на маленькой, примыкающей к комнате утепленной веранде, и я долго не могу заснуть, и все мне не верится, что за темными, мелкими квадратами стекол Москва. Я ее еще не видела. Я увижу ее завтра.
Одноэтажный особнячок в Гагаринском переулке принадлежал когда-то профессору Герье (известные "курсы Герье") и после революции по распоряжению Советского правительства был оставлен в собственность профессора. В 1948 году, когда я впервые переступила порог этого дома, им владела дочь Герье - Софья Владимировна. Она занимала две комнаты, в одной, просторной, жила сама, в другой, поменьше, старушка домработница. Женщина одинокая, безмужняя, бездетная, Софья Владимировна не могла избежать уплотнения, но, видимо, часть соседей ей было разрешено подобрать самой. Тут жили интеллигентные люди, под стать самой Софье Владимировне, трудившейся в те годы над составлением русско-итальянского словаря,словарь этот вышел в 1953 году. Были здесь, однако, жильцы и иного плана, не вписывавшиеся в компанию образованных старушек и семейств, вроде моего дядюшки-агронома, его жены, художницы-иллюстраторши, и еще одного художника с женой и детьми. {279} Каких-то жильцов, значит, Софье Владимировне подселили, ее мнения не спрашивая, власть ее над отцовским домом была призрачна, попросту нереальна, и, кроме хлопот и беспокойств, не приносила ничего. Кажется, именно в том году или годом позже Софья Владимировна от домовладения отказалась, передав свой старый особняк государству.
Полагаю, что при жизни профессора Герье существовал парадный подъезд, выходивший на Гагаринский переулок. Но я этой двери не помню, ее, видимо, уничтожили бесследно, превратив в часть стены. Теперь войти в дом можно было лишь через черный ход, со стороны Мало-Власьевского переулка, и вошедший попадал в рев примусов, в шипение сковородок, в кухонный чад и дым.
Комнаты квартиры расположены по правую и левую сторону кухни. Справа, напротив висевшего в коридорчике телефона (стена сплошь исписана шестизначными цифрами телефонных номеров), в большой, метров в двадцать пять, комнате обитала Екатерина Александровна Булыгина с племянницей Оленькой. Не берусь определить возраст Оленьки, уже тогда седой, из-за чего она казалась мне вполне старой, а возможно, ей и пятидесяти не было: я ведь все видела иными, чем теперь, молодыми глазами. А вот то, что Булыгиной было семьдесят семь лет, знаю точно, это сообщил мне дядя Ваня, а я запомнила.
Никогда не бывшая замужем, в дореволюционные годы начальница ("maman") казанского института благородных девиц, Екатерина Александровна была женщиной роста высокого, очень худой и, несмотря на годы, прямой. Строгий, умный взгляд небольших выцветших голубых глаз. Одевалась по старинке - юбки по щиколотку, блузки с кружевцем и брошью у шеи, а седые жиденькие волосы зачесаны наверх и собраны на темени в маленький кукиш. Ей под восемьдесят, но "добытчиком" семьи была именно она (Оленька вела хозяйство), числясь в штате кафедры иностранных языков Академии наук и готовя аспирантов к сдаче кандидатского минимума по французскому и немецкому языкам. Снисходя к преклонному возрасту Булыгиной, кафедра посылала учеников к ней на дом.