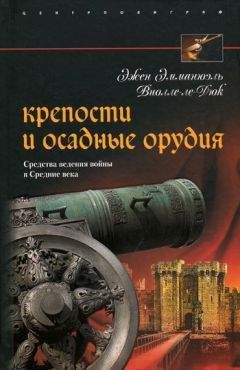Эдвард Гиббон - Упадок и разрушение Римской империи (сокращенный вариант)
Несмотря на эти многочисленные провокации, негодование римских государей угасло после победы, и их тревоги тоже закончились вместе с днями войны и опасности. Характерная для языческой веры снисходительность и мягкий нрав Антонина Пия помогли евреям вернуть прежние привилегии и снова получить позволение делать обрезание своим детям, с тем лишь легким ограничением, чтобы никогда не наносить этот знак принадлежности к еврейскому народу на обращенного в их веру нееврея. Многочисленные остатки этого народа, хотя и были изгнаны из окрестностей Иерусалима, получили разрешение создавать и поддерживать крупные поселения как в Италии, так и в провинциях, приобретать римское гражданство, получать награды и почести на муниципальном уровне и при этом освобождались от дорогостоящих и обременительных государственных должностей. Умеренность или презрение римлян узаконили ту форму духовной полиции, которая была введена побежденной сектой. Ее патриарх, поселившийся в Тивериаде, получил право назначать низших служителей веры и апостолов, быть судьей по ее внутренним делам и получать ежегодный налог со своих рассеянных по миру братьев по вере. В главных городах империи часто возводились новые синагоги. Субботы, посты и праздники, предписанные законом Моисея или добавленные к ним традицией раввинов, отмечались самым публичным и торжественным образом. Такое мягкое обращение постепенно смягчило суровый нрав евреев. Очнувшись от грез о пророчестве и завоеваниях, они стали вести себя как мирные и трудолюбивые подданные. Их непримиримая ненависть к человечеству, вместо того чтобы прорываться наружу огнем кровавого насилия, улетучивалась как пар по менее опасным путям. Они жадно хватались за любую возможность превзойти идолопоклонников в торговле и произносили двусмысленные тайные проклятия высокомерному царству Эдомскому.
Раз евреи, с отвращением отвергая богов, которых чтил их верховный владыка и их соотечественники, все же свободно практиковали свою антиобщественную религию, должна была существовать какая-то другая причина для того, чтобы ученики Христа терпели то суровое обращение, от которого были избавлены потомки Авраама. Разница между теми и другими проста и очевидна, но по представлениям древних она была очень важной. Евреи были народом, христиане – сектой, и, если для каждого сообщества было естественно уважать святыни его соседей, члены самого сообщества обязались быть верными святыням своих предков. Голоса прорицателей, наставления философов и авторитет закона единогласно возлагали на народ эту обязанность. Евреи своим высокомерным заявлением, что они святее всех, могли вызвать у язычников мнение о себе как о ненавистном и нечистом народе, а своим презрительным отказом общаться с другими народами могли заслужить их презрение. Закон Моисея мог состоять по большей части из пустяков и нелепостей. Но все же, поскольку эти нелепости и пустяки долгие годы признавало истиной многочисленное сообщество людей, его последователей оправдывал пример остального человечества, и всеми признавалось, что они имеют право исполнять то, чем пренебрегать было бы для них преступлением. Но этот принцип, защищавший еврейскую синагогу, не обеспечивал ранней церкви ни благосклонного отношения язычников, ни безопасности. Приняв евангельскую веру, христиане, с точки зрения язычников, совершили чудовищное и непростительное преступление: разорвали священные узы обычая и воспитания, нарушили религиозные установления своей страны и дерзко презрели все, во что их отцы верили как в истину и что чтили как святыню. При этом их отступничество (если это можно так назвать) не происходило лишь частично или на местном уровне, ведь благочестивый беглец, который ушел из храмов Египта или Сирии, так же надменно обходя стороной храмы Афин или Карфагена, отказываясь искать в них прибежища. Каждый христианин с презрением отвергал суеверия своей семьи, своего города и своей провинции. Все христиане в целом единодушно отказывались иметь какое-либо дело с богами Рима, империи и человечества. Напрасно угнетаемый последователь новой веры утверждал, что имеет неотчуждаемые права на свободу вероисповедания и собственное мнение в вопросах религии. Хотя его положение могло вызвать жалость к нему, его доводы не могли быть поняты ни философствующей, ни верующей частью языческого мира. Для них то, что кто-либо видит что-то дурное в исполнении общепринятых и освященных временем религиозных обрядов, было так же удивительно, как если бы эти люди вдруг почувствовали отвращение к нравам, одежде или языку своей родины.
Удивление язычников вскоре сменилось негодованием, и самые благочестивые из людей испытали на себе несправедливое, но опасное обвинение в нечестии. Злоба и суеверие вместе побуждали обвинителей представлять христиан как сообщество безбожников, которые своим в высшей степени дерзким выступлением против религиозной конституции империи заслужили самое суровое порицание от ее гражданских должностных лиц. Они порвали (чем хвалились) со всеми видами суеверия, которые утверждало в какой-либо части мира многообразное язычество, но было не вполне ясно, какое божество и какой культ заменяют у них богов и храмы Античности. Их чистое и возвышенное представление о Верховном Существе было непонятно грубым умам языческого большинства, не способного представить себе невещественного и единственного Бога Духа, которого не изображают ни в телесном облике, ни как видимый глазами символ, которому не поклоняются в привычной для них роскошной форме – с возлияниями, празднествами, алтарями и жертвоприношениями. Мудрецы Греции и Рима, которые настолько облагородили свои умы, что осознавали существование Первопричины и видели ее свойства, по велению то ли разума, то ли тщеславия оставляли лишь себе и своим избранным ученикам право на эту философскую религиозность. Они вовсе не собирались признавать суеверия людей образцом истины, но считали, что источник этих суеверий – изначальные наклонности человеческой природы, и полагали, что любая народная разновидность веры и культа, которая имеет самонадеянность отказываться от помощи чувств, по мере своего отхода от суеверия будет все менее способна сдерживать игру блуждающего воображения и полет мечты фанатиков. Беглый взгляд, которым эти умные и ученые люди удостаивали христианское откровение, только подтверждал их поспешное мнение и убеждал их, что принцип единства Бога, к которому они могли бы отнестись с почтением, был новыми сектантами искажен в безумных порывах религиозного экстаза и уничтожен в пустых рассуждениях на отвлеченные темы. Автор знаменитого, приписываемого Лукиану диалога, рассуждая о таинственном предмете – Святой Троице, – с презрением и насмешкой показывает собственное незнание того, что человеческий разум слаб, а совершенство Бога непостижимо.
Менее удивительным могло показаться, что ученики основателя христианской веры не чтили его только как мудреца и пророка, но поклонялись ему как Богу. Язычники имели склонность усваивать любые положения любой веры, которые выглядели хотя бы в чем-то, хотя бы отдаленно и не полностью, похожими на народные мифы; а легенды о Вакхе, Геркулесе и Эскулапе в какой-то степени подготовили их воображение к появлению Сына Божьего в человеческом облике. Но их поражало то, что христиане покинули храмы тех древних героев, которые в младенческие годы мира изобрели искусства, установили законы и победили тиранов или чудовищ, и выбрали единственным предметом своего религиозного поклонения никому не известного учителя, который жил недавно среди варварского народа и пал жертвой то ли злобы своих земляков, то ли зависти римских властей. Языческое большинство, умевшее быть благодарным лишь за земные блага, отвергало бесценный дар, предложенный человечеству Иисусом из Назарета, – жизнь и бессмертие. Его неизменная кроткая стойкость во время добровольных мучений, его доброта ко всем и возвышенная простота его поступков и нрава, с точки зрения этих «людей плоти», были недостаточной компенсацией за отсутствие славы, верховной власти и успеха; и, отказываясь признать его поразительную великую победу над силами тьмы и могилы, они представляли в ложном свете или оскорбительно высмеивали двусмысленные обстоятельства рождения, бродячую жизнь и постыдную смерть божественного Создателя христианства.
Личная вина каждого христианина (в том, что он поставил свое личное чувство выше национальной религии) очень сильно отягчалась большим количеством преступников и групповым характером преступления. Хорошо известно, и уже было отмечено здесь, что римские власти подозрительно и недоверчиво относились к объединению своих подданных в любые союзы и скупо раздавали привилегии негосударственным содружествам, даже образованным с самыми безобидными или полезными целями. Религиозные собрания христиан – людей, отказавшихся от государственной религии, – выглядели гораздо менее невинно: они были незаконны в принципе и могли привести к опасным последствиям; к тому же императоры не считали, что нарушают законы справедливости, запрещая ради спокойствия общества эти тайные, иногда ночные встречи. Благочестивое неповиновение христиан заставляло воспринимать их поступки или, может быть, их замыслы как гораздо более опасные и преступные, чем на самом деле; и римские государи, которые, возможно, смягчились бы в ответ на безропотное повиновение, поскольку считали, что от того, как исполняются их приказы, зависит их честь, иногда пытались суровыми наказаниями искоренить тот дух независимости, который побуждал христиан дерзко признавать над собой власть выше власти гражданского правителя. Своей широтой и длительностью этот духовный заговор с каждым днем, казалось, все больше заслуживал ненависть очередного императора. Мы уже видели, что христиане в своем деятельном и успешном религиозном усердии постепенно проникли во все провинции и почти во все города империи. Казалось, что те, кто принимал эту веру, отрекались от своей семьи и своей родины и соединяли себя неразрывными узами со странным сообществом, которое всюду было не таким, как остальные люди. Мрачный и суровый вид христиан, их отвращение ко всем обычным делам и удовольствиям жизни и их частые предсказания будущих бедствий – все это вызывало у язычников тревожное ожидание какой-то опасности от новой секты, которая пугала их тем больше, чем меньше о ней было известно. «Какими бы ни были правила, определявшие их поведение, – пишет Плиний, – было видно, что их неуступчивость и упрямство заслуживали наказания».