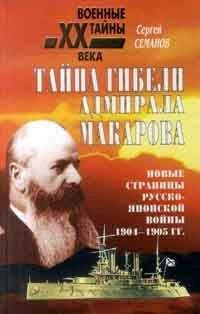Ольга Елисеева - Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века
Все это, как давно отмечено, вовсе не значит, что Татьяна не говорила по-русски, например, с той же няней. Без знания простонародного языка для героини невозможно было бы погружение в фольклорную среду, которой так богата деревня. Она осталась бы глуха к снам, карточным гаданиям и предсказаниям луны.
Культурное единство крестьян и небогатых помещиков Пушкин считал важной ценностью. «Хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож… и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян», — писал он в заметке «О русской истории XVIII века»[381].
Однако литературным языком Татьяна овладела только после двух лет замужества. Как это получилось? Вероятно, после свадьбы молодая провела некоторое время с московской родней супруга. За два поколения до Лариной старые москвичи вообще не знали иностранных языков. Княгиня Е. Р. Дашкова, попав из Петербурга в Москву, писала: «Передо мной открылся новый мир, новая жизнь… Меня смущало то обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка. Ее родня состояла из старичков и старушек, которые относились ко мне очень снисходительно… но я все-таки чувствовала, что они желали бы видеть во мне москвичку и считали меня почти чужестранкой. Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи»[382].
Татьяна подобных затруднений встретить уже не могла. Проблема перешагнула на следующий уровень. Бурно шел процесс создания собственно литературного слога. Главным образом благодаря журналам и обсуждению их в гостиных.
Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С «Благонамеренным» в руках.
Страх, конечно. Но охота пуще неволи. Николай I писал, что выучил русский язык по «Вестнику Европы» Н. М. Карамзина. К французским книжкам Татьяны добавились русские альманахи. Интеллектуальный горизонт княгини N расширился. Потребности и вкусы несколько изменились. В Восьмой главе она превращается в то, над чем поэт иронизировал в Третьей:
Не дай мне Бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!
…Быть может, на беду мою
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи войдут в употребленье.
В 1827 году Пушкин обрушивался на «читательниц», предпочитавших усредненный, гладкий русский язык, подстроенный под французские вкусы: «Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самою раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души; они бесчувственны к ее гармонии… Исключения редки». Именно таким исключением должна была стать Татьяна. Заядлые читательницы тогдашних русских журналов требовали от авторов пристойности. Смирнова-Россет рассказывала, что, когда девушки в Смольном прочли у Пушкина «панталоны, фрак, жилет», они воскликнули: «Какой, однако, Пушкин индеса» [383], то есть неприличный.
Именно такого отношения «читательниц» поэт не переносил. Уместно вспомнить слова из письма Вяземскому 1823 года: «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали».
Пока дама оставалась в кругу «милых предметов», ей следовало «мило искажать» русский:
Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему душевный трепет
Произведут в груди моей;
Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы…
Но Татьяна после письма Онегину — нечто большее. Заставив героиню выразить чувство «с такою простотой, с таким умом», поэт проводит ее между двумя женскими крайностями: «милыми предметами» и «семинаристами в желтой шале».
Впрочем, стоит ли доверять пушкинской иронии? Он писал Вяземскому, что у женщин нет характеров — одни страсти по молодости, а создал самый пленительный женский характер в русской литературе. Доказывал Е. М. Хитрово, что устал от порядочных женщин. А. П. Керн говорил, что «нет ничего безвкуснее, чем терпение и самоотречение»[384]. А любимую героиню наделил тем и другим в высочайшей степени. Так что не будем обижаться на «академика в чепце». Задумаемся лучше о Таниных университетах.
«Воскреснем ли когда?»Обычно не обращают внимания на тот факт, что служащие мужья худо-бедно, а письменным русским владели, поскольку все государственные документы: прошения и донесения, ордера и рапорты — составлялись на русском языке. Французскую резолюцию начальника на полях бумаги подчиненный мог и не разобрать.
Был ли это канцелярит? Только не в современном значении слова. За исключением вводной части и концовки, подобные документы больше всего напоминают письма. Таким образом, князь N мог помочь жене пообвыкнуть к русскому письменному, а, если вспомнить, что он получил приличное образование, — то и к начаткам литературного.
А теперь задумаемся над тем, чем являлась подчеркнутая русскость для аристократии того времени. Почему А. С. Грибоедов нападал не только на незнание дворянами родного языка, но и на фраки:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям…
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
Допетровская старина представлялась автору «Горя от ума» временем более свободным. Тяготея к ней, он подчеркивал свой либерализм. На следствии по делу 14 декабря Грибоедов показал, что предпочитал национальный костюм европейскому, что вызвало дополнительные вопросы: «С какою целью вы… неравнодушно желали русского платья и свободы книгопечатания?» Ответ был очевиден: «Русского платья желал я потому, что оно красивее и покойнее фраков и мундиров, а вместе с этим полагал, что оно бы снова сблизило нас с простотою отечественных нравов, сердцу моему чрезвычайно любезных. Я говорил не о безусловной свободе книгопечатания, желал только, чтобы она не стеснялась своенравием иных цензоров»[385].
В данном случае примечательно, что национальный костюм стоит на одной доске со свободой книгопечатания. В отчете Третьего отделения за 1830 год говорится: «Масса недовольных складывается из… так называемых русских патриотов, воображающих в своем заблуждении, что всякая форма правления может быть применена в России; они утверждают, что императорская фамилия немецкого происхождения, и мечтают о бессмысленных реформах в русском духе»[386].
Русский «архаизм», часто выражавшийся именно в стремлении говорить и писать на родном языке с использованием коренных, «грубых» и простых оборотов речи, в 1820-е годы связывался с радикализмом[387].
Следует иметь в виду, что близкие взгляды в этот момент распространялись в Европе. Всю первую половину XIX века либерализм уютно уживался с национализмом, революционные перемены мыслились одновременно с национально-освободительными в Польше, Италии, Германии, Венгрии, Греции, Латинской Америке. Имперские же ценности были прямо противоположны: неразличение национальности подданного при его скромных правах перед лицом монарха.
В России срастить национальную мысль с либеральной не удалось, хотя среди декабристов было множество пламенных патриотов. В Десятой главе об этом сказано:
Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.
Однако соединить высокие помыслы о родине с «цареубийственным кинжалом» не получалось.
Говоря на русском языке и собирая около себя русский интеллектуальный круг, князь и княгиня N как бы расписываются в своих либерально-аристократических взглядах. Тогдашнее коренное дворянство очень негодовало, простив немцев. Английский посланник Эдвард Дисборо, чей меморандум о событиях на Сенатской площади мы уже приводили, помимо прочего писал: «Они — дворянство — жаловались на засилье иноземцев: что немецкий интендант назначен министром финансов, что иностранные дела поручены греку и потомку ливонца, рожденного на борту британского корабля, что послом в Лондоне — ливонский барон, в Париже — корсиканский авантюрист, в Берлине финн, англичанин командует на Черном море, и помимо этого множество мелких назначений»[388].