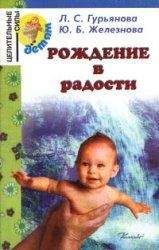Константин Федин - Первые радости (Трилогия - 1)
- Слышал, голубчик? - проговорил Мешков, легонько тронув набалдашником плечо Тихона. - Ступай со двора, нечего тебе тут делать, ступай, говорю я.
Парабукин грузно поднялся и по очереди оглядел всех. Наверно, Цветухин показался ему сочувственнее других, он остановил на нем взор и улыбнулся просительно, но актер покачал головой, - нет, нельзя было ждать богатой милости от этих бессердечных людей!
- Да вы съешьте бутерброд, что вы его в руках мнете? - сказал Цветухин.
- Это... это мое собственное дело, это как я захочу, - ответил Парабукин и, переваливаясь на согнутых коленях, шагами крючника пошел к калитке.
Цветухин обернулся к Пастухову и потряс указательным пальцем.
- Понял?
Пастухов молча мигал на него как будто ничего не разумеющими глазами.
Мешков проводил Тихона до калитки, аккуратно закрыл ее на железную щеколду и опять снял котелок, откланиваясь.
- Нет, нет, пожалуйте теперь к нам, - воскликнул Мефодий. - Да нет, уж не обессудьте, пожалуйте к бедному квартиранту раз в год.
- Просим, просим, - с легкостью изображая радушие, приговаривал Цветухин.
- Не отказывайтесь, прошу вас! Пригубьте, по случаю отходящего праздника, маковой росинки!
Так они, раскланиваясь и расшаркиваясь, ввели в комнату с достоинством упиравшегося Меркурия Авдеевича Мешкова.
6
По-разному можно жить. Но редко отыщется человек, который на вопрос совести - как он живет? - ответил бы, что живет вполне правильно. Даже тот, кто привык обманывать себя, и то найдет на своем жизненном пути какую-нибудь зазубринку, неровность, оставленную ошибочным шагом, привычным пороком или несдержанной страстью. А люди, способные наедине с собою говорить правдиво, так хорошо видят свои ошибки, что, в интересах самосохранения, предпочитают утешать себя поговоркою о солнце, на котором, как известно, тоже есть пятна.
Меркурий Авдеевич искренне признавал, что он не без греха, поскольку все смертные грешны. И он не только считал себя грешником, но и каялся в прегрешениях усердно, каждый год, иногда на первой, иногда на четвертой крестопоклонной, гораздо реже на страстной неделе великого поста, смотря по тому, когда удобнее позволяли дела. Однако если трезво рассудить (а Меркурий Авдеевич рассуждал очень трезво), то каяться - не перед богом и духовным отцом, конечно, а перед собою и перед людьми, особенно перед людьми, - каяться было не в чем, потому что Меркурий Авдеевич жил правильно, то есть так, как повелевала ему совесть, и опираясь на устои, поддерживающие земное бытие.
Он говорил, что главным таким устоем полагает трудолюбие, и действительно требовал от всех трудолюбия и сам любил трудиться, ни одних суток не пропустив, с мальчишеских лет, без труда, без того, чтобы сегодня не прибавить камушка к тому камушку, который был отложен вчера. Такой образ жизни был впитан его кровью настолько глубоко, что всякий другой представлялся ему противоестественным, как голубю - обитание под водой, и он мог уважать только людей, в трудах откладывающих камушек за камушком, прогрессивно и как бы математично стремящихся в таком занятии к назначенному пределу, которым является мирная кончина человека.
Меркурию Авдеевичу принадлежала лавка москательных и хозяйственных товаров на Верхнем базаре и два земельных участка, расположенных по соседству, недалеко от Волги. Участки эти он называл "местами", один малым местом, другой - большим. На малом месте находился собственный двор Мешкова сплошь из деревянных построек, окрашенных синей масляной краской. Тут стоял двухэтажный дом - обитель крошечной семьи Меркурия Авдеевича (у него была только одна дочь - Лиза) и молодых приказчиков мешковской лавки; затем два флигеля - первый маленький, где проживал Мефодий, и второй надворный, побольше, отданный внаймы слесарю железнодорожного депо Петру Петровичу Рагозину; наконец домашние службы - погребицы с сушилками, куда в летнее время перебирались на жительство приказчики. Большое место частью оставалось пустопорожним и заросло бурьяном и розовыми мальвами, а частью было занято каменным строением, в котором издавна помещался ночлежный дом, и большим мрачным лабазом, приобретенным Меркурием Авдеевичем вместе с канатным производством. Отсюда, из лабаза, в теплые дни расплывался щекочущий, волглый и смолянистый запах деревянной баржи и вылетали песни женщин, трепавших старые канаты на паклю.
Владения собирались Мешковым потихонечку-помаленечку, но не без огорчений. Ему, например, был мало приятен ночлежный дом - хозяйство неопрятное и беспокойное, но переустройство здания под какую-нибудь другую надобность требовало бы непомерных расходов. Лабаз едва покрывал земельную ренту, но возводить на его участке новое строение еще не пришло время. Самое же чувствительное огорчение состояло в том, что Меркурий Авдеевич хотел бы расширить большое место до размера всего квартала, а за ночлежным домом, впритык к пустырю, покрытому бурьяном и мальвами, простирался участок со старинным зданием начальной школы, и городская управа - хозяин этого богатства - не думала им поступиться. Поэтому Мешков невзлюбил школу, с криком и озорством мальчишек, с учителями - как ему казалось - чересчур независимого вида, и эта нелюбовь даже дивила его самого, уважавшего грамоту и особенно ученость.
Он действительно уважал ученость всякого рода и, называя врачей медиками, судейских чиновников - юриспрудентами и преподавателей естественной истории - натуралистами, выговаривал эти звания с каким-то пугливым реверансом в голосе. Но светская образованность была для него недосягаемо чуждой, и почтение к ней, пожалуй, ограничивалось внешней робостью, вот этим нечаянным оседанием, реверансом голоса. Проникновенно было его уважение к учености духовной: книжниками, начетчиками церковными он покорялся с тех ранних лет, когда начал откладывать первые копеечки впрок. Еще торговым учеником у москательщика, вырисовывая струйкой воды из чайника восьмерки по полу перед подметанием лавки, Мешков любил припоминать мудреные слова проповедей, слышанных в церкви и сделавшихся первоисточником его просвещения. Теперь, в зрелые годы, он захаживал, иной зимний вечер, в кеновию - тесное монашеское общежитие - послушать обличительные состязания миссионеров с инакомыслием, во всяких толках которого Мешков разбирался, как в кредитках. Посреди низкой церкви, за налоями, в прыгающем озарении восковых свечек, обтирая пот с пухлых лиц, монахи предавали сраму стоявших за такими же налоями единоверцев либо старообрядцев. Вечера напролет раздавались здесь рычания на "развратников православия", и люди, заросшие бородами, усатые и с косицами до плеч, яростно доказывали, что "брадобритие и стрижение усов благочестию христианскому нимало не противно, да еще иногда и нужно, паче же усов подстрижение". И такие же волосатые люди, причислявшие себя к "брадоподвижникам", потрясая книгами Кормчей, Стоглавом, Иосифовским служебником, доказывали, что "греха брадобрития мученическая кровь загладити не может". Мешков тщательно складывал в бережливую свою память проторенные семинариями ходы таких споров - с положением истины и противоположениями, со всеми "понеже первое" и "понеже второе". Многое из любимых умствований запоминал он дословно и, придя домой, повторял с точностью супруге, кротчайшей Валерии Ивановне, например, так:
- Послушай, Валюша, как иеромонах Зиновий излагает довод по растению власов естественному: "Понеже власы суть дело естества, а не сила веры, они растут у нас так, как трава осока и трости на местах влажных; следовательно, сами по себе спасения или святости не составляют. Можно и остриженному иметь добрую душу, а, напротив, с бородою и с усами бывают нечистивые и злодеи. Итак, что за противность оные брить и подстригать?" Мудро, Валюша? А раскольники извиваются, не хотят покориться истине. В бороде, говорят, образ божий состоит, и брить ее беззаконно. Тогда отец Зиновий разит их ответом: "Никак, ибо: а) бог есть дух бестелесный, а потому ни брады, ни ус не имеет, б) как младенцы и жены бород не имеют, то аки бы они и образа божия непричастны?" Премудро сказано, Валюша, премудро!
И, любуясь остротою своей памяти, торжествуя над пригвожденными еретиками, Меркурий Авдеевич разглаживал бороду, смеялся и восклицал:
- Вот нелепости брадозащитников!
Религиозную ученость он считал старшей, а светскую науку младшей, и если бы между ними существовала зависимость, подобная семейным узам, в его книжной этажерке, наверно, убавилось бы церковнославянской печати. Но наука была, по его размышлению, блудным сыном, который не собирался возвратиться в отчий дом. Поэтому к почитанию образованных людей у Меркурия Авдеевича прибавлялась осторожность: бог их знает, не состоят ли эти самые медики и натуралисты в родстве с беспоповцами, какими-нибудь "самокрещенцами" или "погребателями"? Подальше от них - и дело будет надежнее.