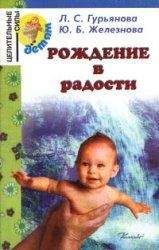Константин Федин - Первые радости (Трилогия - 1)
- Самое лучшее для памяти моего отца - это если вы оставите о ней заботу.
- Единственно на вашу заботу рассчитываю, Александр Владимирович.
- Так вот к вашему сведению, - не без злобы проговорил Пастухов, - я от отца только рассохшийся шкаф получил да кресло о трех ножках. Никаких его обязательств я не принимаю, потому что ничего не наследую. Давайте выпьем за упокой его души и на этом кончим.
- Нет, - ответил Меркурий Авдеевич, отстраняя рюмку, - нет, батюшке вашему о моем спокойствии не было дела, и за его упокой кушайте без меня.
- Ну, это уж вы не по-христиански! - точно обрадовавшись, вскрикнул Пастухов, и с ним вместе неожиданно засмеялись его приятели.
- Не по-христиански? - хмуро спросил Меркурий Авдеевич, приподнимаясь и отодвигая ногами стул. - Христианство желаете мне преподать?
Пришла, видимо, очередь засмеяться ему, и движение его лица как будто начало улыбку, но приостановилось. Кровь помутила глаза, они выпятились из раздвинувшихся век, и в то же время навись бровей сплошным мрачным козырьком опустилась над переносицей. Заново ощутил Меркурий Авдеевич прилив горячего тока к ушам, точно хватил залпом спиртного, но в этом токе уже не было ничего веселого. Мешков знал: стоило ему поднять голос, как уже нельзя будет удержать рвущегося наружу крика, и если попытаются остановить крик, то завопит самое сокрытое в нем и непокоримо-живучее существо: ярость. Он удержал себя еще более пьянящим, чем этот ток, напряжением. Он не крикнул. Он удушил голос вина. Он дал языку перебрать за стиснутыми зубами обличающие, может быть способные кого-то уничтожить, слова: образованные господа, артисты, юриспруденты! Вот, вот, юриспруденты! Он шагнул по крошечной скрипучей комнате, оглядел этих юриспрудентов непринужденных господ, посмотрел за окно на улицу, обернулся, произнес очень тихо, чтобы только не крикнуть:
- Нет, господа... насчет христианства... я не позволю...
Он опять взглянул в окно, стараясь перебороть себя, и хотя взор его был застлан гневом, он увидел, со странной яркостью, свою дочь Лизу, которая шла не торопясь, в сопровождении молодого человека - да, да, молодого человека, ученика технического училища Кирилла Извекова, - шла по солнечной стороне улицы, в праздничном гимназическом коричневом платьице, с сиреневым бантом на груди, по форме Мариинской гимназии, шла с кавалером так, будто не существовало родительского дома, который видел ее всеми своими окнами, и синими воротами, и калиткою, и замершим, остановившимся отчим взором Меркурия Авдеевича - о боже мой, видел ее, да, видел ее, свою Лизу, гуляющей с кавалером, сыном школьной учительницы Извековой, тоже непринужденной, как эти господа, независимой, а может быть, и неблагонадежной женщины - натуралистки, конечно натуралистки! Они ведь все натуралисты. Юриспруденты! Дочь Меркурия Авдеевича фланировала по улицам с кавалером! Да-с, другого слова Меркурию Авдеевичу не подвернулось и не могло подвернуться, и он ответил с негодованием:
- Я не позволю, господа, извините, не позволю фланировать!
С этим словом он выбросился, - не вышел и не выбежал, а выбросился вон, схватив котелок и трость и только, на бегу пригибаясь, отдавая поклон:
- Имею честь... господа!
Пастухов живо поднялся и шагнул к окну. Он увидел, как Мешков распахнул калитку и как она захлопнулась, звякнув припрыгнувшей щеколдой.
- Вот с кого надо писать! - быстро сказал он, грубо проводя ладонью по лицу, как будто утираясь после охлаждающего умыванья.
- Так это же не фантазия, а сама жизнь! - воскликнул Цветухин.
Пастухов чиркнул спичкой, швырнул ее в угол, не закурив, повел взглядом на мутный потолок и стены, не видя ничего, а словно удаляясь за пределы низкой комнаты.
- Все равно, - проговорил он умиротворенно. - Пыль впечатлений слежалась в камень. Художнику кажется, что он волен высечь из камня то, что хочет. Он высекает только жизнь. Фантазия - это плод наблюдений.
- Значит, галахи пригодятся, согласен?
- Годится все, что нравится публике.
- А искусство, Александр?
- Сначала - публика, потом - искусство.
- Александр! Ах, Александр!
Пастухов произнес, как снисходительный наставник:
- Егор, милый, я тебя люблю! Ты чудесный провинциал!.. Но пойми: потакать требуется публике. И ты ведь только потакаешь ей своими галахами... Понял?
- Очень даже, - сказал пьяненький Мефодий, - безусловно, разумеется, даже...
8
Ковровая скатерть была усеяна листьями и цветами, и податливая поверхность ее напоминала песчаное речное дно под ногою, когда входишь в воду. Аночка перелистывала большую книгу, а дойдя до картинки, засовывала руку под переплет и гладила ладонью скатерть.
- У вас каждый день скатерть на столе или только по праздникам? спросила она.
- По будням у нас другая скатерть, - ответила Вера Никандровна, улыбаясь. - Что тебе больше нравится, скатерть или картинки?
- Картинки нравятся для ума, а скатерть - трогать.
- Ты не сказала нам, почему не ходишь в училище.
- А вы спрашиваете - учишься или не учишься? Я и сказала, что не учусь.
- Ишь какая ты точная.
- Не потому, что я точная, а потому, что про что меня спрашивают, про то я отвечаю.
- Ты, наверно, хорошо училась бы.
- Разве вы знаете?
- Я учительница.
- Разве учительницы все наперед знают?
- Все, конечно, нет. Но я вижу, тебе было бы легко учиться.
- Меня мама вот той осенью, которая была перед зимой, совсем отдала в училище. А потом она захотела родить Павлика и взяла меня назад, чтобы я нянчила братика. Ведь папа на Волге зимой не работает, а сама еще больше, чем всегда, шьет. Она, знаете, чепчики, если с прошивками, продает по двугривенному, а если без прошивок, то по гривеннику. Мама меня выучила петли метать, когда чепчик делает на пуговичке, а когда на тесемках, то я умею тесемки пришивать.
Аночка перестала говорить, засмотревшись на раскрашенную картинку в полный лист книги. Вера Никандровна с сыном стояли по сторонам от нее, глядя за ее лицом, переменчивым от любопытства, с приподнятой верхней губой и опущенными тяжелыми вздрагивающими веками. Она чувствовала себя непринужденно и подробно, громко вздыхая, осмотрела жилище Извековых, когда ее привел Кирилл. Подвальная квартира с чугунными коваными решетками на окнах, как у старых церквей, показалась ей чрезвычайно интересной. В большой комнате она остановилась перед книжным шкафом и очень была удивлена, что в маленькой комнате обнаружилась еще целая горка с книгами.
- Это все читаные книги или только так? - спросила она и, узнав, что книги есть всякие, и есть даже читаные-перечитаные, сказала:
- Мама говорит, если бы она не работала, то все время читала бы. Вы, наверно, никогда не работаете?
В обеих комнатах она сосредоточенно изучала постели, накрытые белыми одеялами, и потом утвердительно спросила:
- Наверно, там спите вы, а тут вы, да? А мы спим так: папа с мамой и с Павликом, а я на сундучке, отдельно.
У Кирилла она пересмотрела на стенах картинки, но они ей не понравились: висели какие-то одноцветные бородатые дедушки и огромный рисунок из непонятных белых черточек на синей бумаге.
- Что это?
- Разрез парохода, - сказал Кирилл.
- Как разрез? - удивилась она, переводя взгляд с чертежа на Кирилла и на его мать.
Они засмеялись, и Кирилл спросил:
- Не веришь, что пароход можно разрезать?
Аночка отошла молча от парохода, заглянула в кухню, со вздохом покачала головой на широкую русскую печь.
- У нас в ночлежке кухни нет, а еще когда мы жили на квартире, когда я была немножко больше Павлика, мама говорит - у нас была кухня. А теперь, как Павлик родился, так мама купила керосинку и делает тюрю для Павлика или кашку. А нам с папой, когда купит на Пешке пирог с ливерком, тогда тоже разогреет на керосинке. Во всей ночлежке у нас у одних керосинка. Все как есть у нас просят, только мама ни за что не дает. И верно: на всех ведь не напасешься...
Ей предложили посмотреть книгу с картинками, она быстро села на диван, разгладила на коленках платье, показала Вере Никандровне по очереди растопыренные пятерни, переложив с одной ладони на другую полтинник:
- Чистые. Я недавно мыла.
И вытерла руки еще, для верности, об живот.
Картинка, на которую она засмотрелась, изображала улицу, забитую толпой пестро разодетых людей, махавших руками и приплясывавших. В воздухе над ними реяли яркие зеленые, красные шары, вились и клубились змеями бумажные ленты, сброшенные на толпу другими людьми с балконов больших домов.
- Они в жмурки играют? - спросила Аночка.
- Нет, это карнавал, - ответил Кирилл.
- А почему они все завязались?
- Они не завязались. Это на них маски.
- Зачем?
- Чтобы не узнать друг друга.
- А зачем у них дырки прорезаны? Они ведь все видят.
- Все равно, они узнать не могут друг друга.
- Они артисты?
- Почему артисты? - спросила Вера Никандровна. - Разве ты знаешь, что такое артисты?