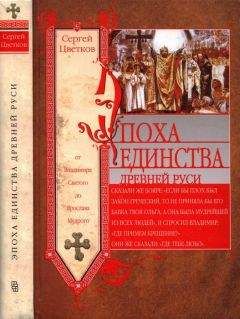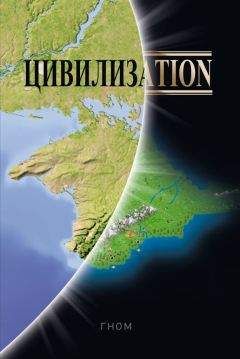Сергей Цветков - Эпизоды истории в привычках, слабостях и пороках великих и знаменитых
Dio и uno scandalo, ma uno scandalo che rende bene. – Бог это скандал, но скандал выгодный.
У Челлини бывали с папами не менее выразительные сцены. Климент VII называл его Benvenuto mio [10] и прощал ему любые выходки. Челлини затягивал и менял сроки работы, откладывал папские заказы ради своих замыслов, не отдавал выполненных работ и гнал к черту папских гонцов. Папа скрежетал зубами и вызывал его в Ватикан. Их ссоры были ужасны и в то же время комичны. Вот Челлини является с гордо поднятой головой. Климент яростно смотрит на него «этаким свиным глазом» и обрушивает на строптивого художника гром небесный: «Как Бог свят, объявляю тебе, взявшему себе привычку не считаться ни с кем в мире, что если бы не уважение к человеческому достоинству, то я велел бы вышвырнуть тебя в окно вместе со всей твоей работой!» Челлини отвечает ему в тон, кардиналы бледнеют, шепчутся и беспокойно переглядываются. Но вот из-под плаща мастера появляется готовая вещь, и лицо папы расплывается в отеческой улыбке: «Мой Бенвенуто!» Однажды Челлини ушел от него взбешенный, так как не получил просимой синекуры. Климент, знавший его свободолюбивый нрав и боявшийся, что мастер покинет его, в растерянности воскликнул: «Этот дьявол Бенвенуто не выносит никаких замечаний! Я был готов дать ему это место, но нельзя же быть таким гордым с папой! Теперь я не знаю, что мне и делать».
...Челлини мог наполнить Рим убийствами и бесчинствами, но стоило ему показать папе перстень, вазу или камею, как милость тотчас бывала ему возвращена. Полурельеф Бога Отца на большом бриллианте спас ему жизнь после сведения счетов с убийцей брата; убив Помпео, он попросил помилования у Павла III, грозя в противном случае уехать к герцогу флорентийскому, – прощение тут же было даровано ему.
Недовольным его решением папа объявил: «Знайте, что такие люди, как Бенвенуто, единственные в своем художестве, не могут быть подчинены закону». Искусство Челлини принесло последнее утешение умирающему Клименту VII. Заказав ему медали, папа вскоре заболел и, боясь, что не увидит их, приказал принести их к своему смертному одру. И вот, умирающий старик приказывает зажечь вокруг себя свечи, приподнимается на подушках, надевает очки – и ничего не видит: смертельный мрак уже застилает ему глаза. Тогда своими негнущимися пальцами он гладит эти медали, стараясь ощупью насладиться прекрасными рельефами; потом он с глубоким вздохом откидывается на подушки и благословляет своего Бенвенуто.
...Bisogna veramente che l'uomo muoia, perchè altri possa appurare, ed ei stesso, il di lui giusto valore. – Нужно, чтобы человек умер, чтобы другие, да и он сам, увидели его подлинную ценность.
Челлини пользовался покровительством и дружбой Франциска I, северного варвара из еще убогого тогда Парижа. Король не уставал ходатайствовать перед папой об освобождении Челлини из тюрьмы и приютил его у себя после побега. Трудно указать другой пример, когда бы монарх был столь искренен в своем восхищении искусством. Как некогда крестоносцы изумлялись чудесам Востока, он радуется всему, что Челлини, словно чародей, достает перед ним из своего рукава. Щедроты, которыми он осыпал флорентийца, изумили даже самого Челлини, знавшего себе цену. Франциск дает ему деньги, не дожидаясь выполнения работ. («Хочу придать ему бодрости», – поясняет король.) «Я утоплю тебя в золоте», – говорит он ему однажды. Вместо мастерской он дарит Челлини замок Маленький Нель и выдает грамоту на гражданство. Но Челлини для него не подданный, король предпочитает звать его «мой друг». «Вот человек, которого должен любить и почитать всякий!» – не устает восклицать Франциск.
Франциск I восхищался работами Челлини и осыпал его дорогими подарками. Портрет работы Леонардо да Винчи
Знаменитая солонка «Салиера», выполненная Челлини для Франциска I
Этот король, проведший жизнь в эпических войнах с громадной империей Карла V, умел испытывать сладостное забвение, разглядывая какую-нибудь маленькую безделушку вроде изготовленной Челлини солонки с аллегорическими фигурами Земли и Воды с переплетенными ногами. Однажды кардинал Феррарский повел короля, озабоченного возобновлением войны с императором, взглянуть на модель двери и фонтана для дворца Фонтенбло, законченные Челлини. Первая изображала нимфу в кругу сатиров, сладострастно изогнувшуюся и обвившую левой рукой шею оленя; вторая – нагую фигуру со сломанным копьем. Развеселившийся Франциск мигом забыл все свои горести. «Поистине, я нашел человека себе по сердцу! – воскликнул он и добавил, ударив Бенвенуто по плечу: – Мой друг, я не знаю, кто счастливее: государь ли, который находит человека по сердцу, или художник, встретивший государя, умеющего его понять». Челлини почтительно сказал, что его удача, безусловно, гораздо больше. «Скажем, что они одинаковы», – смеясь, ответил король. Но не было никого, кто бы относился к искусству более благоговейно, чем сам Челлини. Его тело могло вытворять что угодно, преступая все законы, божеские и человеческие, и все же, когда утро заставало его в мастерской, изнуренного безжалостной лихорадкой вдохновения, он должен был чувствовать себя Адамом, совлекшим ветхую плоть. Я не хочу сказать, что это что-нибудь оправдывает. Искусство – к чему заблуждаться на этот счет? – не выписывает индульгенций, и красота не спасет мир (разве что кого-нибудь из нac?). Достаточно того, что желчь и кровь, которыми пропитаны страницы его жизнеописания, испаряются там, где Челлини говорит о своих произведениях. Конечно, и здесь его корчит от ярости, лишь только речь заходит о первенстве в искусстве ваяния (надо отдать ему должное: он не унижается до спора с соперниками, он просто отрицает их талант – полностью и безоговорочно). Но, как сказал Честертон, в человеке, который не скрывает своего честолюбия, всегда есть некая толика смирения. Челлини знал это смирение, когда говорил о равных себе. «От Микеланджело Буонаротти, а никак не от других, я научился всему тому, что знаю», – признается он в одном месте. Неизменным остается его уважение к Донателло и Леонардо да Винчи; он одобряет учеников Рафаэля, которые хотели убить Россо за то, что тот унижал их учителя.
...Il giudicio uman come spesso erra! – Как часто ошибается человеческое суждение!
Красота, в чем бы она ни заключалась, тотчас переполняет его восторгом. Человеческий костяк, символ Смерти для большинства его современников, исторгает у Челлини в «Речи об основах рисунка» настоящий гимн великолепию изящества его форм и сочленений.
Брошь «Леда и лебедь» работы Челлини
«Ты заставишь своего ученика, – поучает он воображаемого собеседника, – срисовывать эти великолепные тазовые кости, которые имеют форму бассейна и так удивительно смыкаются с костью лядвии. Когда ты нарисуешь и хорошо закрепишь эти кости в твоей памяти, ты начнешь рисовать ту, которая помещается между двух бедер; она прекрасна и называется sacrum… Затем ты будешь изучать изумительный спинной хребет, который называют позвоночным столбом. Он опирается на крестец и составлен из двадцати четырех костей, называемых позвонками… Тебе доставит удовольствие рисовать эти кости, ибо они великолепны. Череп должен быть нарисован во всевозможных положениях для того, чтобы навсегда закрепить его в памяти. Потому что, будь уверен, что художник, который не держит в памяти четко закрепленными всех черепных костей, никогда не сможет нарисовать мало-мальски грациозную голову… Я хочу также, чтобы ты удержал в голове все размеры человеческого костяка для того, чтобы затем более уверенно одевать его плотью, нервами и мускулами, божественная природа которых служит соединением и связью этой несравненной машины». Говоря о своем «Юпитере», он упоминает наряду с другими членами совершенство «прекрасных детородных частей».
Настоящим драматизмом насыщена сцена отливки «Персея» – главного произведения Челлини, от которого его долгие годы отвлекали заказы государей и вельмож и жизненные обстоятельства. Здесь вдохновение неотделимо от ремесла, творческое дерзание – от робости перед величием замысла. Челлини тщательно записывает все подробности своего титанического труда, словно маг, старающийся заклинаниями вызвать из огня чудесное видение. «Я начал с того, что раздобылся несколькими кучами сосновых бревен… и пока я их поджидал, я одевал моего Персея теми самыми глинами, которые я заготовил за несколько месяцев до того, чтобы они дошли как следует. И когда я сделал его глиняный кожух… и отлично укрепил его и опоясал с великим тщанием железами, я начал на медленном огне извлекать оттуда воск, каковой выходил через множество душников, которые я сделал; потому что чем больше их сделать, тем лучше наполняются формы. И когда я кончил выводить воск, я сделал воронку вокруг моего Персея… из кирпичей, переплетая одни поверх другого и оставляя много промежутков, где бы огонь мог лучше дышать; затем я начал укладывать туда дрова, этак ровно, и жег их два дня и две ночи непрерывно; убрав таким образом оттуда весь воск и после того как сказанная форма отлично обожглась, я тотчас же начал копать яму, чтобы зарыть в нее мою форму, со всеми теми прекрасными приемами, какие это прекрасное искусство нам велит.