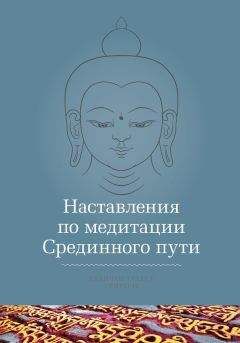Н Кальма - Заколдованная рубашка
- Пустите меня! Пустите меня! Я его заставлю замолчать! Я ему заткну глотку, этому изменнику! - кричал он, отбиваясь. - Как он смеет оскорблять нашего Галубардо! Нашего святого героя Галубардо! Да что вы все смотрите на него? Прикончите его, чтоб он не пачкал своим грязным языком всех нас! - вопил он и извивался в крепких руках Пучеглаза.
Встал бледный, невозмутимый Сиртори. Он заговорил, и Лука замер, так и не освободясь от железных объятий Лоренцо.
Своим внушительным голосом Сиртори подтвердил показания Пучеглаза о поведении Датто на телеграфе; кроме того, эксперты-графологи установили, что письма и документы, найденные в пещере Францисканца, написаны тем же лицом, что и докладные записки Энрико Датто. Только одни писаны левой рукой, так как подсудимый левша, а другие - правой. Показания же мальчика Луки Скабиони вполне подтверждаются тем, что свидетельствовали Марко Монти и Лоренцо, по прозвищу Пучеглаз.
- Таким образом, Орланди Скиаффи - племянник папского асессора Орлани, офицер короля Франциска Второго, действовавший под именем Энрико Датто, вполне изобличен и в том, что он предал одного из лучших сынов Италии Бруно Пелуццо, которого он помог арестовать и обрек на смерть, и как изменник родины и дела свободы. Обманом, под чужим именем, пробрался он в свободолюбивое наше войско, сражающееся за независимость и объединение всей Италии. Обманом втерся в доверие генерала Гарибальди и всего нашего офицерства. Он пользовался этим доверием для того, чтобы шпионить за нами, изменять нам, вести всех нас к конечной гибели и разгрому. Орланди Скиаффи были ненавистны наши идеалы, он враг свободы и враг итальянского народа...
Тут Лука снова не выдержал и закричал:
- Вы забыли! Вы забыли, синьор полковник, еще одно: левша не только изменник и предатель, он еще и убийца! Он убил русского, хорошего, смелого, доброго синьора Алессандро! Он убил его подло, из мести, и теперь синьор Алессандро, такой ласковый, молодой, прекрасный синьор, умирает! Левша - подлый убийца! Я готов сам его убить, вот что!
- Да, высокочтимые судьи и синьоры уффициале, мальчик прав, выступил и Пучеглаз. Он немного ослабил свою хватку, и Лука вздохнул свободнее. - Изменник убил нашего большого друга, который вместе с нами сражался за свободу. Это надо помнить все время, синьоры!
Марко Монти сказал негромко:
- Он убийца, и его тоже надо убить.
- Нет, друзья, мы не забыли, мы ничего не забыли из преступлений этого человека, - раздался голос, на который все обернулись.
Говорил сам Гарибальди. Он сидел рядом с Сиртори в центре судейского стола и до сих пор не произнес еще ни слова. Сейчас он говорил и смотрел на Датто-Орланди, и преступник не выдержал его прямого, чистого взгляда и опустил голову.
- Этот человек подлежал бы смерти только за первое свое преступление - за предательство Бруно Пелуццо, - продолжал Гарибальди. Но он не только предал - он изменил своему народу и своей родине. И за это он вторично подлежит смерти. Но Датто, он же Орланди, еще убил, убил русского, который приехал к нам из своей огромной далекой страны для того, чтобы бороться за нас, за счастье всего нашего народа. Этот русский доставил мое письмо здешним патриотам, и они помогли нам справиться с бурбонцами. Русский при сражении в Калатафими показал себя настоящим героем. Русский разделял с вами наши лишения и наши опасности, он был отважным и благородным юношей! Русский был смертельно ранен, спасая нашу итальянскую девушку. За его жизнь Датто-Орланди в третий раз подлежит смерти.
Гарибальди величаво оглядел присутствующих.
- Я ничего не хочу решать без вас, братья. И я спрашиваю вас: какую кару заслужил этот человек?
- Смерть, - первым откликнулся Марко Монти.
- Смерть, - в один голос сказали Пучеглаз и Лука.
- Смерть, - подтвердили Сиртори, Биксио, Орсини и другие офицеры.
- Ты слышал, что решили люди? - обратился Гарибальди к преступнику. Мы могли бы повесить тебя - так поступают со всеми предателями и убийцами, но мы хотим быть человечными до конца, и поэтому я, с согласия моих товарищей, приговариваю тебя к расстрелу.
- Исполнение приговора назначается на сегодня, ровно в полдень, прибавил Сиртори.
Все смотрели на Датто. Не скажет ли он хоть слово в свое оправдание, не попросит ли его помиловать, не раскается ли в содеянном?
Но Датто только побледнел как полотно, скривил рот и закричал каким-то заячьим голосом:
- Разбойники! Пираты! Вы еще ответите за это! Король накормит вами своих собак! Вы еще...
- Уведите его! - сказал страже Гарибальди.
И Датто, орущего, изрыгающего проклятия, почти вынесли на руках из зала суда.
* * *
Полдень. На колокольнях разными голосами говорят колокола: то густыми, как мед, то старчески дребезжащими, то разбитными и бойкими, точно кумушки в воскресный день. Лючия выходит на балкон и на минуту закрывает глаза - солнце обжигает ей лицо. Жар обрушивается на ее похудевшие плечи. Вот последний удар колокола - самого тяжкого, грозного, - и тотчас раздается сухой ружейный залп. Словно порох где-то подожгли. Лючия вздрагивает. Секунду она стоит, прислушиваясь. Все ее напряженное существо будто ждет еще чего-то. Но уже снова стоит тишина, и слышно, как жужжит зеленая муха, запутавшаяся в ранней паутине.
Лючия знает: только что, сию минуту, расстрелян Датто. Уже успел прибежать из суда и все рассказать Лука. Датто перед расстрелом плакал, валялся в ногах у Сиртори и молил сохранить ему жизнь. Так, на коленях, он, наверное, и принял смерть...
Мальчик, рассказывая, был полон мстительной радости: наконец-то Датто наказан за все свои преступления! Сам генерал Галубардо сказал, что он заслужил казнь!
Лука думал, что Лючия обрадуется смерти своего преследователя и убийцы Александра, но Лючия молча, с неподвижным лицом выслушала его и снова вернулась в дом. Ее не трогали сейчас ни казнь Датто, ни даже то, что Гарибальди - победитель, что он стал диктатором Палермо, что по его приказу населению продают дешевый хлеб и люди впервые за много лет поют и веселятся на улицах.
Все, все стало ей безразличным, кроме этой выбеленной прохладно-сумеречной комнаты, где на широкой деревянной кровати разметался, разбросал простыни юноша со спутанными волосами и блестящими, ничего не видящими глазами. Нет, он видел, но не Лючию, не ее нежные руки, подносившие ему питье, ледяные компрессы на лоб, а что-то свое, далекое. И все время он говорил, шептал по-русски. О чем-то просил, кого-то убеждал, быстро, без умолку, как будто хотел в эти последние остающиеся ему часы наговориться, наговориться всласть за всю жизнь.
Ах, как мечтала Лючия понять незнакомый северный язык, на котором говорил ее любимый! Только одно она понимала: когда Александр звал ту женщину с золотыми волосами. Это она твердо знала по выражению его лица, вдруг делающегося смиренным и страстным, по его молящему шепоту.
- Я ведь ни о чем не прошу... - шептал он. - Сашенька, ангел мой, а только одного хочу: быть подле вас, защищать вас, заботиться, быть вам опорой. И ваша рука чтоб была рядом... Нет, нет я не стану целовать, не бойтесь, мне бы только прохладу почувствовать. Ах, какая у вас нежная, прохладная рука... Прижаться бы к ней лбом, очень у меня лоб болит, говорил он вдруг жалобно, как маленький.
И Лючия сама готова была разрыдаться от этого жалобного голоса.
Иногда, вперив глаза в выбеленную стену, он воображал себя среди русских снегов, разговаривал с няней Василисой или с Мечниковым.
- Какой морозец славный! - говорил он, быстро перебирая руками простыню. - А снегу-то сколько навалило! Нет, няня, не три мне щеки, мне и так жарко. Давай лучше на санках... Эх, полетели, голубчики! Ты знаешь, Левушка, я быстрый, я все умею. И ты, пожалуйста, не смейся надо мной. Ты мне все пиши, а я буду старый и буду читать и радоваться...
И впервые в жизни он разговаривал с отцом так, как всегда мечтал, серьезно, доброжелательно, твердо:
- Нельзя, нельзя быть таким жестоким, mon pere. Люди хотят ласки, доброты. Все мы рождаемся свободными, счастливыми и только сами делаем наш мир тягостным и жестоким. Я вас прошу, батюшка, будьте ласковы к людям, ну, вот хоть к Никифору. И бумагу ему дайте, ту самую, пускай он тоже будет свободным... А уж я вас так любить буду, так почитать...
Вдруг он вскочил, прислушался:
- Едет! Она едет! Она сейчас будет здесь! - Поспешно и лихорадочно он начал приглаживать волосы, застегивать рубашку у ворота. - Она сейчас войдет! - повторял он.
Лючия, не понимавшая слов, сразу поняла, кого он ждет. В самом деле, залаял Ирсуто, и у дома остановилась коляска. Своей уверенностью Александр заразил даже девушку. Она задрожала и, сев у постели Александра, не сводила глаз с двери.
Вот на лестнице послышались шаги. Кто-то подымался. Все ближе, ближе... Лючия не выдержала, вскочила, подбежала к двери. И в ту же минуту дверь отворилась, и на пороге встал Гарибальди.