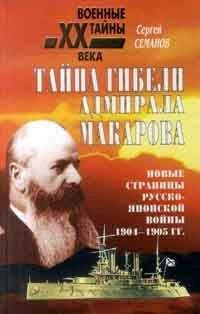Ольга Елисеева - Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века
Фактически так думал каждый. У хороших, попечительных, нужных армии командиров создавалось впечатление, что чем больше они выбиваются из сил, тем холоднее и неприветливее к ним относятся. Получив отказ в очередной просьбе, Воронцов писал из Мобежа старинному другу генералу Сабанееву: «Что за манер, что о вещи, не стоящей другого предмета, кроме пользы службы, надо просить мне как о партикулярной себе милости и всегда ждать отказа? Кому нужнее, чтобы 12-я дивизия всегда была хороша и поддерживала славу оружия нашего? Ведь не мне столько, не графу Воронцову, который может быть переведен и в другую дивизию и куда угодно, и может дома жить спокойно и благополучно. Армии это нужно, Александру Павловичу, и отечеству нашему, России. Не мне даются отказы, я ведь не для себя прошу, а для Службы»[359].
Надо полагать, жаловался и князь N.
Но послушаем и другую сторону. Александр I возложил неблагодарный труд подтягивать полки по строевой линии на младших братьев Николая и Михаила. Совсем юных, которых воевавшие подчиненные не боялись и не слушались. Исполнение его поручений сильно испортило им репутацию, тем более что за дело они принялись с рвением. Такое распределение ролей позволяло императору самому не ссориться с офицерским корпусом. А об угрозе со стороны братьев не беспокоиться — они стали непопулярны. Николай I писал о тогдашнем положении вещей: «Оставлен я был один с пламенным усердием, но с совершенною неопытностью… Служба шла везде совершенно иначе, чем слышал волю моего Государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила оной были твердо в нас влиты. Я начал взыскивать, но взыскивал один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде даже моими начальниками… Было время (поверит ли кто сему), что офицеры езжали на учения во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу. Подчиненность исчезла и сохранялась только во фронте»[360].
Обратим внимание, во-первых, на фрак. Мы уже говорили о роли мундира — облекаясь им, офицер как бы облекался репутацией целого полка и не мог манкировать честью. Партикулярное платье подразумевало свободу не только от «подчиненности», но во многом и от требований присяги, которые стали рассматриваться как слишком тяжелые.
Второе, что следует отметить, это сохранение служебной иерархии только в строю. Выпорхнув из него в светскую гостиную, на бал или в театр, дворянин чувствовал себя равным среди равных. Генералы 1780-х годов рождения, и среди них князь N, были склонны поощрять молодежь, поскольку и сами исповедовали либеральные идеи. Но юношам не свойственно чувство меры. Панибратство, как в случае с Орловым, могло обернуться жестоким оскорблением. Когда разразилась так называемая «семеновская история», Закревский писал, что прежний командир полка Потемкин «неосновательно и излишнею своею деликатностью приучил подчиненных ему офицеров не полагать никакого различия между чинами и вне фрунта не оказывать ни малейшего уважения к старшим своим и даже к нему самому»[361].
Опасное положение «хозяина»Этот дух дружества очень импонировал молодому Пушкину. Он любил единый круг товарищей, не разделенных званиями, шумную беседу нараспашку, застолья, где блюда не носят по чинам. Встретивший поэта за столом у Воронцова в Одессе полковник И. П. Липранди, старый кишиневский приятель, отмечал раздражение и недовольство Александра Сергеевича, хотя он через стол переговаривался с дамами — графинями Нарышкиной и Воронцовой. «Пушкин был чрезвычайно сдержан и в мрачном расположении духа», а встав из-за стола, бросил полковнику: «Это не обеды Благовского, Орлова и даже…» — не окончил фразы и вышел[362].
Между тем открытые столы начальники держали специально для своих подчиненных не только, чтобы материально облегчить их жизнь. Совместное застолье у генерал-губернатора воспитывало в чиновной, как и в полковой среде, дух корпорации, сплоченности и преданности начальнику. Посетивший Францию в 1816 году Ф. Ф. Вигель нарисовал картинку, которую позднее не раз наблюдал и в Одессе: «Мобеж был полон его (Воронцова. — О.Е.) именем, оно произносилось на каждом шагу и через каждые пять минут… Он имел непогрешимость папы; он не мог сделать ничего несправедливого или неискусного; ничего сказать неуместного; беспрестанно грешили они против заповеди, которая говорит: не сотвори себе кумира. Не быв царем, вечно слышал он около себя лесть, только чистосердечную, энтузиазмом к нему произведенную»[363]. Сразу вспоминается:
Он засмеется — все хохочут,
Нахмурит брови — все молчат;
Он там хозяин, это ясно.
Неудивительно, что молодой поэт был раздражен. Денди не имел права терпеть чужого первенства. А чтобы утвердить свое — вне чинов, — ему требовалось унизить прежнего хозяина положения, высмеять эпиграммой, отобрать женщину. Именно так по отношению к баловню счастья графу Б ведет себя желчный Сильвио в «Выстреле». Искусство «благородного скандала» было отточено до мелочей, и побеждал тот, кто переворачивал уже сложившуюся иерархию с ног на голову[364].
Воронцов не совершал ошибок Орлова, не шел на излишнее сближение. Он частным образом признавался, что терпеть не может таких характеров, как у Пушкина и Байрона, нарушителей общественного спокойствия, от поведения которых окружающим становится стыдно. То есть ждал скандала. «Не странно ли, что я поладил с Инзовым (губернатором Кишинева. — О. Е.), а не мог ужиться с Воронцовым, — писал поэт А. И. Тургеневу в июле 1824 года. — …Старичок Инзов сажал меня под арест, всякий раз как мне случалось побить молдавского боярина. Правда — но зато добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовал со мной о гишпанской революции. Не знаю, Воронцов посадил ли бы меня под арест, но уж, верно, не пришел бы ко мне толковать о конституции Кортесов»[365].
Однако стена холодности не спасла Михаила Семеновича: он получил эпиграмму еще более обидную, чем Орлов, став для поколений читателей не героем, не спасителем нескольких сотен раненых товарищей из горящей Москвы, не командующим Оккупационным корпусом, оплатившим все долги своих подчиненных, не благодетелем юга России, а «полуподлецом». Говорят, Пушкин позднее сожалел об этом…
«Цепь через все полки»Вернемся к рассказу молодого Николая Павловича: «По мере того, как я начинал знакомиться со своими подчиненными… я возымел мысль, что под сим, то есть военным распутством, кроется что-то важное… Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора: на искренно усердных и знающих; на добрых малых, но запущенных и оттого незнающих, и на решительно дурных, то есть говорунов дерзких… Сии-то люди составляли как бы цепь через все полки и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние оказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление из полков мне оплачивалось»[366].
Когда Бенкендорф стал начальником штаба Гвардейского корпуса, он не сразу осознал, что есть люди, которых он не может одернуть в строю или посадить на гауптвахту в силу их высокого происхождения, родства и связей. В первое время за его промашки ездил извиняться по великосветским гостиным командир корпуса генерал Васильчиков[367].
Восстание Семеновского полка в октябре 1820 года стало рубежным моментом. Кто-то из офицеров спохватился. Кто-то решил идти дальше. «Розовый цвет либерализма незаметно превратился в красный», — писал Вигель. Где был князь N? Обошел ли гвардейский переполох его стороной?
Вспомним похвальное слово Семеновскому полку, сочиненное Глинкой:
Зато солдат, опрятный, ловкий,
Всегда учтив и сановит,
Уж принял светские уловки
И нравов европейский вид
Но перед всеми отличался
Семеновский прекрасный полк,
И кто ж тогда не восхищался,
Хваля и ум его, и толк,
И человечные манеры?
Эти-то «человечные манеры» оказались не ко двору. На смену либеральному Потемкину пришел не просто требовательный, а жестокий подполковник Ф. Е. Шварц, выпорхнувший из-под крыла А. А. Аракчеева. Его при всем желании невозможно было уважать, ему требовалось подчиняться. Объясняя начальнику Главного штаба произошедшее, Бенкендорф писал: «Офицеры, оскорбленные именем, манерами, репутацией человека, совершенно чуждого полку, восстали против назначения, казавшегося им оскорбительным… Не будучи в состоянии приобрести уважение, Шварц решил заставить себя бояться, и в этих видах он стал употреблять наказания скорее позорные, чем строгие; подробности их отвратительны (однажды, например, он вырвал солдату ус. — О.Е.); генерал Васильчиков неоднократно ему выговаривал. Пусть сопоставят то сознание своего достоинства, которое отличало полк более сотни лет, с обращением, коему он подвергся в продолжение последнего года, и тогда будет нетрудно понять, что подобное положение должно было разрешиться кризисом»[368].