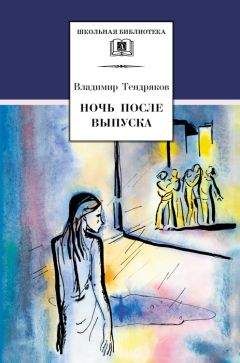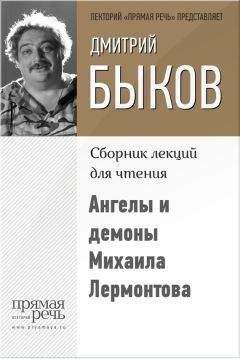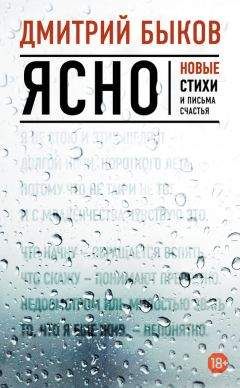Дмитрий Быков - Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник)
Потом был четвертый класс, и его мама вела у нас географию – такая вся стройная, голубоглазая, узкогубая, в голосе металлические нотки… (Вот пару лет назад мы встретились в банке – она умилилась-прослезилась, обняла меня, назвала красавицей…) А тогда я все время чувствовала, что она СЛЕДИТ ЗА МНОЙ (уж такая проницательная! Наверняка видела, что мы с Володькой не столько географией и историей увлечены, сколько друг другом…).
Грянула очередная пересадка: я не успела и глазом моргнуть, как его пересадили за мою спину – с самой красивой девочкой в классе, с Маринкой, у которой уже пышнела (на зависть всем девочкам) грудь и нежно румянились щеки, а самое главное – на спине ее горделиво покоилась толстенная и длинная темно-русая коса! А ко мне посадили сопливого-нерадивого Ваську, с которым никто сидеть не хотел!
Володька еще долго будет тыкать меня в спину то карандашом, то ручкой – наверное, еще полгода, пока его опять – уже в пятом классе – не посадят рядом со мной.
В пятом классе у нас начал меняться характер поведения: пацаны начали шалеть и проявлять к противоположному полу явные (дикарские!) знаки внимания. Володька стал мне дерзить, отворачиваться – словно стесняться меня или того, что на нас поглядывают как-то… Нет, он не носил мне портфель (это в нашей школе казалось диким, невозможным), не провожал до дома, не покупал мне пирожки в буфете, не защищал меня от мальчишек – словом, он никак не выдавал своей долговременной симпатии. По мере взросления его характер стал портиться – прямо на глазах, к ужасу моему! – он жаднел, при общем озорстве прятался за чужие спины, начал списывать, ловчить, соглашаться со всякими негодяями (а я судила своих одноклассников очень строго!)… Мне с каждым днем становилось грустнее. Чувства мои омрачались сознанием того, что я обожаю недостойного человека. А потом в один день все кончилось!..
Я пришла перед началом урока и обнаружила, что у нашей парты нет стульев. Володька притащил откуда-то стул и поставил СЕБЕ. «Эгоист какой!» – подумала я. Да нет, не мог он так сделать, сейчас звонок, а мне сидеть не на чем. Возьму стул себе. Взяла и села. В одно мгновение он вспыхнул, озлился, сжал кулаки и ка-а-ак отвесит мне оплеуху!!! У меня и дыхание остановилось, и я не могла ничего сказать, только: «Ты?! Ты?!» И разразилась рыданиями…
Это была такая страшная точка в наших отношениях, такое оскорбление, от которого долго заживала душа. Сбежались, конечно, все, Петр Васильевич, классный наш (тоже уже покойный), со свойственной ему экспрессией ахнул: «ТЫ ЕЕ УДАРИЛ?»
С того дня словно шарик лопнул – и воздух вышел, словно вытекла вода из треснувшего кувшина: Володька для меня больше не существовал, хотя доучились мы с ним в одном классе до выпуска.
Елена Смирягина
«Дорогая Бредун!»
Портфель купли светло-коричневый с двумя симметричными блестящими застежками. Кроме застежек на портфеле не было ничего – ни зайца из «Ну, погоди!», ни круглобокого Винни-Пуха, ни енота – «От улыбки хмурый день светлей». Скучный был портфель. Я немного расстроилась, но родителям не сказала.
На белый фартук бабушка нашила толстое кружево, на мои жиденькие волосы-пушок привязали огромный бант – гофрированный, праздничный, белый. Еще были припасены два узких коричневых банта с тонкой окантовкой, но это «на каждый день», «на будни», которые начнутся со второго сентября.
Для меня, ребенка, который никогда не был в детском саду, первое сентября первого класса показалось днем чудовищным и страшным. Огромное здание днепропетровской школы № 28, в которой я проучилась с 1976 по 1986 годы, с полутемными лестницами, громкая торжественная музыка, чья-то рыдающая от переполненных чувств бабушка, общий туалет с кафельным предбанником, и люди – очень много людей разных возрастов и назначений: от мелких вертлявых первоклассников до строгих взрослых – учителей и уборщиц. Мне было страшно и одиноко, я лихорадочно пыталась сообразить, что бы такое придумать, чтобы завтра в школу не пойти, чтобы никогда не наступил этот самый «каждый день», на который были отложены скромные коричневые банты.
Меня посадили за вторую парту. За первую сажали отличниц и детей со слабым зрением, за последние – неформальных лидеров и неисправимых двоечников. Серые мышки вроде меня сидели за вторыми и третьими партами в компании двоечников, которых педагоги еще надеялись исправить воздействием на них примером хорошего поведения и старательной учебы.
«Учительницу первую мою» звали Анастасия Тарасовна. Ей было тогда, наверное, под шестьдесят. Она была полной рыхлой женщиной с густыми черными бровями и маленьким тугим кукишем темных с проседью волос. Анастасия Тарасовна носила строгие простые платья с брошами. Однотонное ли платье, в сумрачно ли синих цветах – обязательно крупная брошь на вырезе. Эти броши гипнотизировали меня, как удав кролика. Я могла весь урок следить за перемещением очередного янтарного паука в пространстве, совершенно не слушая, что в это время говорит Анастасия Тарасовна. Наверное, она была неплохой учительницей, наверняка работала в школе давно. Первого сентября она показала, как надо сложить руки на парте – правую на левую, а если что сказать хочешь – эту верхнюю правую руку следует поднять под углом 90 градусов к парте. Так я со сложенными руками все три года начальной школы и просидела. Читала лучше всех, писала аккуратно, все задания выполняла в срок. А руку так ни разу и не подняла – отвечала, только если вызывали. Видимо, я была идеальной ученицей для Анастасии Тарасовны, потому как табель она мне рисовала отличный: и по успеваемости, и по поведению.
Сначала со мной сидел Паша Козенко. Он был двоечником и хулиганом, но я его не боялась по одной простой причине: мы были почти соседями и иногда вместе играли. За год до того, как я пошла в школу, мы переехали в Днепропетровск, и папа купил покосившийся дом-мазанку с большим участком у старой цыганки. Купил, чтобы построить на том месте новый дом – светлый, большой, в два этажа, где жили бы долго и счастливо дети и внуки, а родители старели бы медленно и чинно в достатке и покое.
Та старая цыганка приходилась Паше Козенко родной бабушкой. У нее был сын Степан, могучий мужик с орлиным взором и кудрями до плеч, – Пашкин отец. Он женился на русской – маленькой полноватой женщине с косым глазом. У них было двое детей: высокая, как модель, гулящая красавица Ленка и маленький двоечник Паша, мой первый сосед по парте. Они жили через три дома от нас, и Пашкина бабушка – старая и страшная, как баба-яга, в многоярусных цветастых юбках, в черном платке с алыми розами, из-под которого мохнатой паутиной выбивались седые жесткие волосы, – эта колоритная бабушка часто ходила по дороге мимо наших окон. Звенели золотые серьги толстыми кольцами в ее ушах, дымила старая трубка во рту. Трубку цыганка вынимала, только когда хотела проклясть свою невестку – тетю Люду, Пашину мать. Проклинала она ее громко – на всю улицу, смачно и красиво – почти без мата, но так виртуозно, что в благоговейном трепете замер бы любой собиратель фольклора. Пашину бабку боялись, говорили, что сглазит и порчу наведет – только глянет. Кто знает… Старая цыганка прожила почти до ста лет, пережила весь свой табор и проклинаемую невестку. Говорили, что хорошо она относилась только к моей маме, потому что мама с ней всегда здоровалась. И улыбалась, говорят. А старая ведьма улыбалась ей в ответ, не вынимая замусоленной трубки изо рта. Мою маму она тоже пережила…
Забегая вперед, скажу, что лет в шестнадцать Пашка сел в тюрьму – вернее, за воровство и разбой попал в колонию для несовершеннолетних преступников, если я ничего не путаю.
Но это все случится потом, а первого сентября 1979 года об этом никто еще не знал и не догадывался.
После нового года, когда началась третья четверть, нас пересадили. Пашка попал на «камчатку», видимо, как не поддающийся положительному влиянию, а ко мне посадили мою тайную любовь – Костю Сплендора. Он тоже был двоечником, но парнем видным, высоким, как по мне – красавцем писаным. Костя был белобрыс и конопат, но брови имел черные и широкие, а ресницы длинные и пушистые, как у восточных принцесс. На меня он не обращал внимания, даже жеваной бумагой плевался в других девочек, через весь класс. Хотя, казалось бы, до меня-то рукой подать, плюйся не хочу. Помню, как он забрал у девочки, что сидела сзади, пенал. Та попыталась вернуть свое, но Костя лег на парту, прикрыв добычу собственным телом, а девочка обижалась, плакала и все пыталась Костю с пенала стащить. Так они возились, пока не появилась Анастасия Тарасовна и не восстановила справедливость.
На следующем уроке я вытащила свой пенал – красивый, желтый, с маленькими красными счетами на внутренней стороне крышки. Вытащила и поставила на парту, ближе к Костиной половине. Пенал так и простоял весь урок, завлекая соседа внутренним содержанием: сине-белой резинкой, простыми карандашами и металлической шариковой ручкой с полуоблупившейся аббревиатурой ГБСМП (городская больница скорой медицинской помощи), которую принес мне с работы папа. Все было напрасно – Костю Сплендора не интересовали ни внутреннее содержание, ни внешняя привлекательность моего пенала.