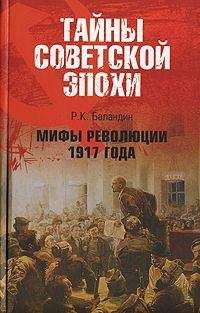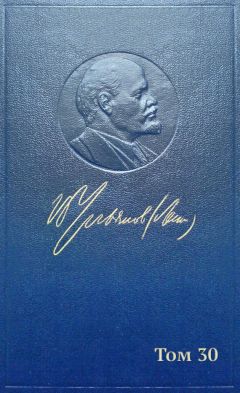Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года - Булдаков Владимир
Примечательно, что противостоять забастовщикам пробовал только министр почт и телеграфов меньшевик А. М. Никитин, приказавший связистам не передавать телеграммы Викжеля. Однако почтово-телеграфный союз отказался выполнять приказ и выразил недоверие министру. При этом лишь нескольких голосов не хватило тогда для того, чтобы выразить недоверие всему правительству. Давить на власть стали не столько пролетарии, сколько средние слои.
25 сентября новым министром путей сообщения стал А. В. Ливеровский. Кое-какие требования железнодорожников были удовлетворены, однако анархисты расценили это так: правительство «бросило кость». Их обвинения были справедливы. «Обесценивающиеся бумажные деньги все настойчивее толкают нас на путь коммунизма», – утверждал анархист К. Ковалевич. Разумеется, он выдавал желаемое за действительное. Однако кое-где забастовки продолжились: рабочие не соглашались с новыми расценками их труда. Железнодорожники продолжали держать в страхе и власть, и обывателей.
Впрочем, независимо от цивилизованных форм социальной борьбы Россию накрыла волна погромов – продовольственных и мануфактурных, пьяных и аграрных, – дефицит способен незаметно для власти сыграть огромную революционизирующую роль.
Левые агитаторы воздействовали через солдаток не только на их мужей-фронтовиков, но и на все отчаявшиеся слои населения в тылу. Теперь к пролетариям готовы были отнести себя все, воображающие себя униженными и оскорбленными. Анархисты не случайно заявляли, что существует только «два класса (две партии): угнетатели и угнетенные». В сущности, по такой же схеме вели свою агитацию большевики.
В начале октября «мучные беспорядки» вспыхнули в Ново-Николаевске, Томске, Барнауле: на базарах у «спекулянтов» требовали основательного снижения цен. Дело дошло до того, что солдатки избили мешками представителя Совета солдатских депутатов и добились своего. При этом обозначился ксенофобский и юдофобский настрой толпы. Отчасти его провоцировало поведение некоторых представителей еврейского населения. Так, еврейский еженедельник сообщал, что на отдыхе в Ессентуках некоторые богатые евреи откровенно швырялись деньгами, вздувая тем самым цены, что вызывало раздражение обывателей. Разумеется, встречались и евреи-идеалисты. Один из первых евреев-офицеров Г. Фридман, сын директора московского банка, в частных беседах заявлял: «Теперь все близоруко и пошло говорят о национальности и забывают Россию; мне хочется, чтобы забытые Россией евреи оказались исключением».
После корниловского выступления в Кронштадте обнаружился необычный феномен: женщины настаивали на том, чтобы им разрешили вступать в Красную гвардию. После бурной полемики «мужской» Совет им отказал. Причина феминистской боевитости была связана с тем, что женщины опасались остаться без работы в результате ожидаемых увольнений и планируемой «разгрузки» города. Так или иначе, борьба за социальное выживание приобретала революционные формы.
Вспышки погромов и самосудов повсеместно инспирировались женщинами. Нервным срывам были подвержены не только представительницы низов, но и интеллигентные дамы. Так, некая анонимная особа обрушила на Н. С. Чхеидзе поток характерных угроз:
Я… готова взорвать Вас, пойти с кадетами, с Корниловым, с самим чертом, только бы, наконец, можно было сказать, что… сегодня не будет резни и убийств, не будет серый хам издеваться над чувствами и человеческим достоинством интеллигента, в том числе и офицеров, среди которых так много пострадавших при Николае студентов и просто интеллигентов…
Эскалация социального конфликта шла из глубин человеческой психики.
В стачечное движение все активнее включались периферийные отряды рабочего класса. С августа по вторую половину октября проходила забастовка московских кожевников, охватившая до 110 тысяч человек, в сентябре и октябре бастовали фармацевты, служащие аптек, рабочие профсоюза коробочников и картонажников, деревообделочники, шоферы, слесари и мотористы. Каждый готов был ощутить себя особо обездоленным. Одновременно нарастала поляризация сознания верхов и низов. При этом ощущение «мы» и «они» неуклонно перерастало в вопрос «кто кого?».
Рабочие остро реагировали на любые неурядицы – от бытовых (перебои со снабжением) до политических (кризисы власти). Вероятно, в связи с этим во второй половине сентября в Ярославле произошли «очень сильные волнения рабочих на продовольственной почве», грозившие перерасти в погром. Постоянно возникали затруднения с выплатой заработной платы. Из Перми сообщали о нехватке денег для выплат рабочим оборонных заводов: ситуация была чревата «повсеместными забастовками, остановкой всех предприятий… и приостановкой железнодорожного сообщения». Совет съездов бакинских нефтепромышленников сообщал 16 августа, что для выдачи аванса рабочим-нефтяникам требуется около 15 млн мелкими купюрами, которых в местном отделении Госбанка нет.
В конце сентября в заседании Особого совещания по обороне отмечалось, что «особенно усилилась разруха на заводах Екатеринославской, Харьковской, Киевской и других южных губерний»: рабочие, угрожая расправой и арестами, заставляют администрацию подписывать выгодные им договоры. Сложилась тупиковая ситуация: «Рабочие не признают ныне легальных способов борьбы, а лишь насилие и террор… Никакой власти на заводах не существует, и поэтому единственным оружием борьбы с рабочими у заводчиков является закрытие предприятий…» Между тем закрытие заводов было возможно теперь лишь с санкции правительства, что хорошо было известно рабочим. Особое совещание требовало от Временного правительства «твердости», многозначительно напоминая: прежняя власть также не прислушивалась к его рекомендациям.
На стачечном движении сказывалась и эвакуация предприятий и рабочих из прифронтовой полосы (Польша, Прибалтика, Петроград) вглубь России. По некоторым свидетельствам, появление в Екатеринославле 300 питерских рабочих привело к резкой радикализации местных пролетариев. Сказывалась и агитация анархистов. Появлялись крайние требования, вплоть до 4-часового рабочего дня (на отдельных производствах), «справедливого» распределения «сверхприбылей» предпринимателей через государство. Характерно, что при этом рабочие соглашались делиться своими социальными достижениями (за счет государства). Так, они охотно поддерживали требования 6-часового рабочего дня со стороны служащих.
Все чаще случались пьяные погромы, но теперь погоня за «зеленым змием» приобрела социально патологический характер. Показательна ситуация в Ржеве, уездном городе Тверской губернии. Здесь, как и во многих провинциальных городах, ситуацию определял 40-тысячный гарнизон. В конце сентября – начале октября солдатами был разграблен винный завод, перепилась едва ли не все солдатская масса, семь человек умерли, еще несколько погибли в пьяных драках. Местным большевикам предотвратить погром не удалось, их едва не линчевали. 3 октября «пьяные обыватели и солдаты били стекла, выламывали двери магазинов и окна». 4 октября толпа разрослась до 25–30 тысяч. Беспорядки такого рода обычно заканчивались так же внезапно. Разумеется, большевики обернули их в свою пользу, вытеснив «беспомощных» эсеров из местных органов власти.
Процесс раскачивания психики городских обывателей под предлогом действия «темных сил» не прекращался. Это выливалось в многочисленные «базарные» бунты. Описывали механизм их возникновения: «Начинается обыкновенно на каком-нибудь рынке, где унюхают тухлую рыбу, и пойдут без разбора уничтожать и воровать все, что подвернется под руку». В «антибуржуйском» сознании городских низов утверждались такие «социально вредные» фигуры, как торговец, лавочник, спекулянт.
По некоторым подсчетам, среди участников городских бунтов промышленные рабочие составляли всего 13%. Между тем обыватель был в полном смысле слова запуган призраком тотальной стачки. 20 октября М. М. Богословский записывал в дневнике: «В ночь на завтра должна начаться забастовка городских рабочих. Им сделаны все уступки, но они, явно совершенно из политических побуждений, хотят все же бастовать». Он считал, что повсеместно действует «одна и та же рука». Впрочем, на следующий день уточнял: «Забастовка городских „товарищей“ не состоялась, очевидно, потому что не состоялось и выступление в Петербурге». Имелось в виду вооруженное выступление большевиков, о котором трубили на каждом углу. Люди взвинчивали себя призраком вездесущего врага и ожидали развязки.