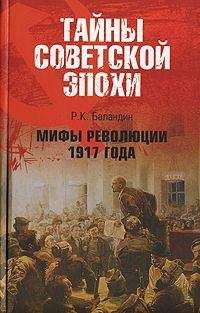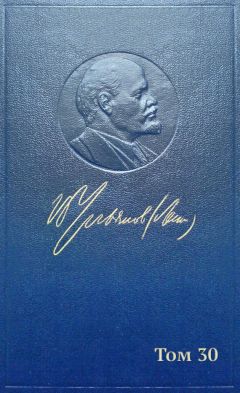Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года - Булдаков Владимир
Казалось, что «спас» Демократическое совещание И. Г. Церетели. «Когда демократия раскололась на совещании… Церетели покачал головой и кое-как склеил разорвавшиеся части», – утверждала правосоциалистическая газета. Беда в том, что «склеить демократию» не означало «склеить» Россию – она уже была безнадежно расколота. «Как будет орган, раздираемый изнутри непримиримыми противоречиями… органом, контролирующим правительство?» – таким вопросом задавались многие. «…Безумная война, которая никак не может кончиться, и общее безумие, корысть и ненависть, и погромы в Тамбове, Козлове, Ташкенте, – а там наверху, в Демократическом совещании, весь этот ужас безнадежно покрывается словами, словами и словами», – так виделся итог совещания на фронте 94.
Реальный финал Демократического совещания последовал в ночь с 23 на 24 сентября 1917 года. Троцкий объявил, что большевики уходят. Большевистский публицист прокомментировал его заявление так: «…Вместе с волнами его голоса распространялась изо дня в день по Смольному стихия побеждающей революции». «Браво, Троцкий!» – заявил Ленин.
30 сентября 1917 года М. О. Гершензон писал Н. А. Бердяеву:
…Я думаю, что лучшие люди России разделились на две партии: партию сердца и партию идеи, идеологии; одним больно за живого человека, за нуждающихся и обремененных, другим – тебе в том числе – за государственность, за целость и мощь России… К обоим лагерям примкнули корыстные, дурные, – к Ленину – жадные, ищущие урвать себе клочок «счастья», к Струве и тебе – ищущие вернуть ранее завоеванное «счастье», промышленники и землевладельцы. Рабочие и крестьяне грабят Россию во имя личности, Рябушинский и Львов – во имя национальных ценностей!
В революционной демократии, которая вольно или невольно покрывала все это, люди не ощущали практической необходимости. Между тем Демократическое совещание породило еще один бесполезный институт – Предпарламент. Векторы эмоциональных устремлений культурных «верхов» и «низов» оказались разнонаправленными. Символично, что 25 октября 1917 года, в день захвата большевиками власти, в правосоциалистической газете меньшевик А. Н. Потресов заметил, что персонажам российского предпарламента история «обеспечит бессмертие комизма».
ЛЕВЫЙ МАРШ ИЛИ ПОГРОМНАЯ СТИХИЯ?
Некогда Ленин связывал ритм революции с «мерной поступью железных батальонов пролетариата». Происходило нечто иное. Сентябрь и октябрь сделались наиболее нервными, беспокойными и хаотичными месяцами революции.
Больным местом народного хозяйства оставалась инфраструктура, прежде всего железные дороги – именно с их проблемами связаны тяготы военных лет. Нельзя сказать, что в верхах этого не понимали. Еще в апреле новый министр путей сообщения Н. В. Некрасов пригласил Г. В. Плеханова возглавить комиссию по улучшению положения железнодорожников, а 27 мая издал документ, предусматривавший участие профсоюзов в управлении дорогами. Это была невиданная даже по тем временам мера. Справа этот циркуляр сравнивали с Приказом № 1. Впрочем, пронырливого Некрасова не любили даже однопартийцы-кадеты; похоже, у него не оставалось выбора. На посту министра он вел себя амбициозно и независимо: однажды его возмутило обращение предпринимателей, недовольных расследованием взятки «на какой-то южной железной дороге».
Конечно, для общественного недовольства было множество объективных причин, однако таковые в России воспринимаются «субъективно». Еще в мае 1917 года министр финансов А. И. Шингарев сетовал, что «некоторые у нас забыли, что надо платить налоги». Он отмечал, что теперь, когда жалованье солдатам увеличено с 5 руб. до 7 руб. 50 коп., требуется 500 млн руб. дополнительных расходов. Повышение жалованья почтово-телеграфным служащим обойдется в 150 млн руб., железнодорожным служащим – в 350 млн, народным учителям – в 40 млн. Прибавка на дороговизну чиновникам составит 150 млн, повышение пенсий – еще 70–80 млн. А повышение окладов рабочим на частных предприятиях обошлось в 1,2 млрд руб. Однако люди, оказавшиеся на грани физического выживания, подобные доводы воспринимали по-своему: если речь идет о миллионах, значит, денег у правительства еще много.
Тем временем как среди рабочих, так и среди промышленников росло убеждение: их обирает противоположная сторона. Общественность, со своей стороны, упрекала в классовом эгоизме не только буржуазию, но и рабочих. Это было верно лишь отчасти: предприниматели вынуждены были закрывать убыточные предприятия, а отдельные категории рабочих добивались взвинчивания заработной платы. Но в целом тогдашние пролетарии не могли быть удовлетворены своим положением. Согласно данным самих промышленников, неквалифицированные рабочие-мужчины в феврале – марте 1917 года зарабатывали 2,25–3,5 руб. в день, причем их положение постоянно ухудшалось. Даже «буржуи» соглашались, что жить на три рубля в день «является уже делом чрезвычайной изобретательности». А представители пролетариев заявляли, что «инфляция страшная, и семейный человек не может жить на 3,35 руб.».
В особом положении оказались железнодорожники: фиксированная зарплата всех государственных служащих не успевала за ростом цен. К этому добавлялась психическая нагрузка – дороги работали в экстремальном режиме. Между тем на учредительном съезде железнодорожного союза произошел конфуз: когда 16 июля Г. С. Тахтамышев, новый управляющий министерством, заявил, что отныне железнодорожные комитеты будут обладать лишь правом совещательного голоса в административных комиссиях, съезд «глаза вытаращил от изумления». Впрочем, железнодорожники были дисциплинированными, а их руководство – осмотрительным.
В избранном съездом исполнительном комитете (сокращенно именуемым Викжелем) было 14 эсеров, 11 беспартийных, один кадет и два или три большевика. Но умеренный состав этого органа отнюдь не гарантировал его доверия правительству. Все тогдашние выборные органы находились под усиливающимся давлением низов. К концу 1917 года положение на железных дорогах оценивалось как катастрофическое. Управление ими затруднялось постоянными нарушениями правил эксплуатации. В результате самые технически оснащенные дороги работали на треть своих возможностей. Положение представлялось безвыходным.
Еще 22 июня Г. В. Плеханов объявил о прекращении работы возглавляемой им комиссии, признав, что «истощение финансовых средств государства лишило ее возможности оказать железнодорожным служащим всю ту помощь, в которой они нуждались и нуждаются». Дело шло к забастовке, а между тем А. И. Шингарев видел в таких действиях психопатологию анархо-синдикализма. На деле отчаявшиеся рабочие и служащие срывались на архаичные формы социального протеста. Идея «справедливости», незримо витавшая над социальными безобразиями 1917 года, казалось, парализовала всякий здравый смысл.
В сентябре 1917 года обыватели с ужасом ожидали железнодорожной забастовки. Заседания плехановской комиссии дали ничтожный эффект: предлагаемое ею увеличение ставок не успевало ни за инфляцией, ни за дороговизной. Это возмутило анархистов. Отмечая, что прожиточный минимум для Москвы – 265 руб., для Петрограда – 355 руб., а для Сибири и Дальнего Востока – 135 руб., газета «Анархия» возмущалась тем, что некоторые железнодорожники получали только 95 руб. 95 У М. М. Богословского вызывало недоумение другое: машинисты получали 250 руб., а чернорабочие в мастерских – 500 руб. Ответственность за эту несправедливость, считал он, «падает всецело на правительство». Мнения анархистов и людей лояльных стали совпадать.
Забастовка железнодорожников все же состоялась. Представитель Викжеля объяснял, что в случае отказа от забастовки этот руководящий орган «мог утратить руководство массой и всякий авторитет». «Началась железнодорожная забастовка, по-видимому, небезосновательная, но ужасная по последствиям», – записал в дневнике 24 сентября либеральный князь В. М. Голицын. Правда, железнодорожники учитывали ее негативные последствия для фронта: на фронтовые дороги забастовка не распространялась.