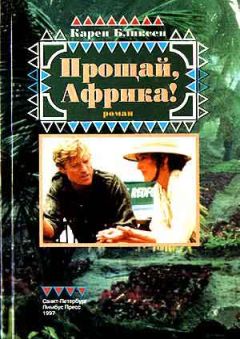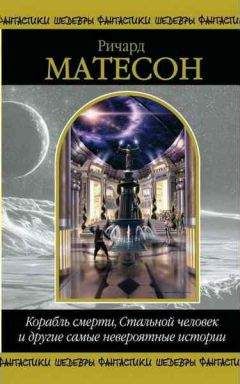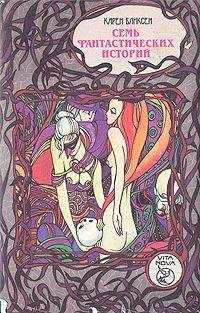Карен Бликсен - Прощай, Африка!
Вполне вероятно, продолжал первый врач, что если бы у Китоша не пропало желание жить, он выжил бы. Например, если бы ему дали поесть, он не потерял бы любви к жизни — ведь известно, что у голодного человека наступает полное безразличие ко всему. Он добавил, что по всей вероятности, его никто не бил ногой по губам, — он сам искусал губы от сильной боли.
Кроме того, врач считал, что Китош до девяти часов не думал о смерти: ведь в это время он еще пытался убежать. Но когда увидели, что он пытался высвободиться из пут, и связали его покрепче, он, очевидно, понял, что ему не сбежать, и это, по словам доктора, могло усугубить его отчаяние.
Оба врача из Найроби пришли к одному выводу. Они считали, что Китош скончался от того, что его высекли, и от голода, а также от желания умереть; на последнем обстоятельстве врачи особенно настаивали. Хотя признавали, что желание умереть могло возникнуть как следствие порки.
Выслушав показания врачей, суд перешел к рассмотрению теории, которую он назвал "теория добровольной смерти". Окружной хирург — единственный врач, который видел тело Китоша — резко возражал против этой теории и подтвердил это примерами из собственной практики: многие его пациенты, больные раком, хотели умереть, но это им все-таки не удалось. Но, как выяснилось, все они были европейцами.
В конце концов, суд присяжных вынес вердикт: "Виновен в нанесении тяжких повреждений". Это относилось и к туземным виновникам смерти Китоша, но смягчающим обстоятельством, как указал суд, было то, что они только выполняли приказание своего белого хозяина, и сажать их в тюрьму было бы несправедливо. Суд приговорил поселенца к двум годам тюрьмы, а обоих его чуземных слуг — к однодневному заключению.
Однако, может быть, кому-нибудь из читателей может показаться не совсем понятным, даже унизительным, что европейцу в Африке не дано полное право выбросить из жизни уроженца этой страны. Это его родина, и что бы вы с ним ни творили — когда он уходит, он уходит по своей воле, он волен уйти, если не желает оставаться. А кто отвечает за то, что творится в доме? Разумеется, хозяин этого дома, получивший его по наследству.
Образ Китоша, твердо решившего умереть, — хотя все это произошло довольно давно, — отмечен особой красотой, потому что он так сильно и верно чувствовал, в чем достоинство и правда. В нем воплотилась скрытность дикого существа, которое знает в свой смертный час, что есть последнее убежище, последний выход; эти вольные существа уходят от нас, когда хотят, и мы не в силах поймать или удержать их.
О некоторых африканских птицах
В самом начале длинного сезона дождей, в последних числах марта и в начале апреля, я слушала пенье соловья в африканском лесу. Песня была не полная — всего несколько нот, вступительные аккорды концерта, репетиция, которая внезапно прерывалась, потом начиналась снова. Казалось, что кто-то под пологом мокрого леса в полном одиночестве настраивает миниатюрную виолончель, И все же это была знакомая мелодия, такая же самозабвенная и прекрасная, как и та, что вскоре зазвучит в лесах Европы, от Сицилии до Эльсинора.
У нас в Африке встречались те же черные с белым аисты, какие строят гнезда на крытых черепицей крышах деревень на севере Европы. Но там они кажутся самыми большими из птиц, а в Африке их превосходят по величине крупные, внушительного вида птицы — марабу и птица-секретарь. Аисты в Африке ведут себя не так, как в Европе, где они гнездятся парами и считаются образцом счастливой семьи. Здесь они летают большими стаями, словно люди, толпящиеся в больших клубах. В Африке этих птиц называют истребителями саранчи: они налетают на саранчу, когда она падает на землю, и лакомятся досыта. А когда горит трава, аисты кружат перед наступающими цепями огоньков, высоко парят в радужных отсветах и в клубах серого дыма, зорко высматривая мышей и змей, убегающих от огня. Да, аистам весело живется в Африке. Но настоящая их жизнь — не здесь, и когда наступает весенняя пора, время строить гнезда и выводить птенцов, тогда сердце зовет их на север, к родным гнездовьям, и они улетают пара за парой, и вскоре уже бродят по холодным болотам своей родины.
А на равнину в начале сезона дождей, когда на месте выгоревшей травы уже пробиваются зеленые ростки, слетаются сотни куликов. Безграничный горизонт похож на морскую даль или на песчаные пляжи, ветер там такой же привольный и свежий, опаленная трава пахнет солью, а когда подрастает молодая трава, она ходит волнами от ветра по всей шири равнин. И когда белые гвоздики расцветают на полянках, вспоминаешь белые гребешки на волнах, бегущие со всех сторон, когда плывешь вверх по Зунду. И кулики на равнине тоже чем-то похожи на морских птиц, они носятся, сломя голову, но долго бежать не могут, и внезапно с шумом и резкими криками взмывают вверх из-под носа у вашей лошади, так что светлое небо звенит от птичьего крика и свиста крыльев.
Венценосным журавлям, которые клюют зерно на только что засеянных полях кукурузы, все прощается, потому что их считают предвестниками близких благодатных дождей: любят их еще за то, что они умеют танцеват1 Когда эти долговязые птицы слетаются громадными стаями и начинают танцевать, распустив крылья — это незабываемое зрелище. Танец отличается элегантностью, но чутьчуть отдает жеманством — с чего это птицы, рожденные летать, начинают подпрыгивать вверх и вниз, как будто их магнитом притягивает к земле? Весь этот балетный спектакль напоминает священный ритуальный танец; может статься, журавли пытаются связать воедино Небо и Землю, словно крылатые ангелы, восходящие по лестнице Иакова. Одетые в оперенье изысканного светло-серого тона, в черных бархатных шапочках с веерообразным "венцом", эти журавли напоминают нежные ожившие фрески. А когда они, кончив танцы, поднимаются в небо и улетают, впечатление торжественности священного танца сохраняется, потому что полет их сопровождается каким-то прозрачным звонким звуком — то ли они курлыкают, то ли крылья позванивают на лету — и кажется, что вереница церковных колоколов взлетела ввысь и плывет, крылатая, высоко в небе. Звуки слышны долго и доносятся издалека, когда самих птиц уже не видать — благовест в облаках.
Навещали нашу ферму и крупные птицы-носороги, они прилетали полакомиться каштанами на большое дерево. Это очень странные птицы. Встреча с ними всегда несет какое-то новое приключение, далеко не всегда приятное, — уж очень у них разбойничий, хитрый вид. Как-то утром меня задолго до рассвета разбудили громкие кудахтающие крики возле самого дома, я вышла на террасу и насчитала сорок одну птицу-носорога, — они расселись на деревьях и прямо на лужайке. Они в тот раз показались мне совсем не похожими на птиц — напоминали скорее какие-то гротескные игрушки или причудливые украшения, разбросанные как попало рукой ребенка. Все они были черные — того ласкающего глаз, благородного черного цвета, который встречаешь в Африке; это глубокая, словно накопленная веками чернота, подобная слою древней сажи, она заставляет почувствовать, что нет другого цвета, который мог бы сравниться по элегантности, интенсивности и яркости с черным. Птицы оживленно переговаривались, но в их негромких голосах была какая-то сдержанность — так после похорон негромко переговариваются наследники покойного. Утренний воздух был прозрачен, как хрусталь, и траурное сборище купалось в свежести и чистоте утра, а за деревьями, за спинами птиц, поднималось солнце — тусклый багровый шар. Не всегда угадаешь, какой день предвещает такой рассвет.
Ни одна из африканских птиц не может соперничать по изысканности окраски с фламинго: их розовые и алые перья похожи на цветущую ветвь олеандра. Ноги у этих птиц — невероятно длинные, шеи причудливо и красиво изогнуты, а силуэт такой прихотливый, что кажется — они по какой-то древней, утонченной традиции жеманничают, стараясь продемонстрировать самые невероятные, изысканные и неправдоподобные позы и движения.
Как-то мне пришлось плыть из Порт-Саида в Марсель на французском пароходе, и на нем везли сто пятьдесят фламинго в Зоологический сад. Их держали в больших грязных ящиках с парусиновыми стенками, в тесноте, по десять птиц в каждом ящике. Служитель, сопровождавший птиц, сказал, что процентов двадцать, по его расчету, погибнут в пути. Птицы к такой тесноте не привыкли и во время сильной качки теряли равновесие, ломали ноги, а другие затаптывали их. Ночью, когда на Средиземном море подымалась высокая волна и пароход швыряло с гребня на гребень, я слышала, как каждому глухому удару волны о борт ухнувшего вниз корабля вторили пронзительные крики фламинго. Каждое утро у меня на глазах сторож вынимал двух-трех мертвых птиц и выбрасывал их за борт. Аристократка, бродившая по долине Нила, сестра священного лотоса, плывущая над землей подобно одинокому облаку в лучах заката — она превратилась теперь в жалкий комок грязно-розовых с алыми подтеками перьев, откуда торчали длинные, тонкие, как спицы, ноги. Мертвые птицы, недолго помотавшись на волнах, бегущих вслед за пароходом, уходили под воду.