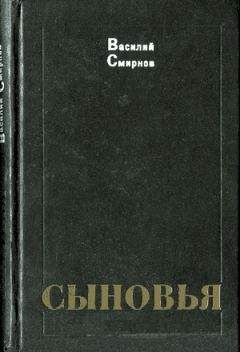Василий Смирнов - Весной Семнадцатого
- Бог послушается, бес вас заешь, обязательно послушается! Это господу богу раз плюнуть. Ему, думаю, осточертело глядеть на нас, как торчим праведниками возле рая, ждем, когда нам апостол Петр распахнет ворота: пожалуйте, милости просим!.. А у самих, дуй те горой, ключи давны-ым-давно-о брякают в кармане, - проворчал Егор Михайлович, глебовский гость, зачастивший в последнее время к мужикам в село. - Отмыкать надо-тка собственной рукой! И ничего не жалеть, как ту барыню-сударыню вашу, что еле выскочила из огня... Не жалеть, говорю!
Сказал не очень понятно, а Шурка встрепенулся, его передернуло, пронзило насквозь: "Да ведь это он про усадьбу! Но ведь там весняночка-беляночка Ия в соломенной шляпке с ленточками, братчики ее, что же с ними будет?! - ужаснулся Шурка. - А с Ксенией Евдокимовной?"
До сих пор усадьба, барское поле, луг, роща в его представлении почему-то были как-то странно сами по себе, а кто находился в белом доме-громадине с башенкой на крыше - сами по себе, словно они просто жили там, как живут в людской Яшка Петух, Василий Апостол со снохами-солдатками и внучатами, пленный Франц и его товарищи. Теперь только Шурка стал думать немного иначе. Эта барыня-сударыня, которой мужики желают, чтобы она не выскочила из огня, жадная, прижимает шибко народ. Ксения Евдокимовна не такая, ни с кого не дерет втридорога, она просто больная мамка, девочки и ее братишек мамка, вот и все. Она никому худого не сделала, живет и не слышно.
Даже после того вечера в усадьбе, когда дяденька Никита Аладьин и пастух Сморчок разговаривали о земле с барыней и она плакала, была ужасно жалкая, в черном, одно лицо и руки белые, она испугалась, что Евсей хочет поклониться ей в ноги, даже после всего этого барское, к Волге, пустующее поле в сознании Шурки не имело никакого отношения к Ксении Евдокимовне, а имело отношение к управлялу и генералу, настоящему хозяину этого заброшенного поля. Он, Шурка, с мамку ростом, сам мужик, был согласен с солдатами и мужиками, что эту землю, раз она лишняя и ее много, надо отобрать. Он даже отцу про это говорил и получил от него нахлобучку. Но лишь сейчас все стало на свои места, усадьба и ее хозяева и нехозяева, жильцы, все связалось воедино, осмыслилось как будто до конца, и Шурке сразу стало неловко, не по себе.
Ему виделось и слышалось, как Ксения Евдокимовна, грустно-ласково улыбаясь, чужая, но которой почему-то не боязно вовсе, как она разговаривает с ним, с Шуркой и Яшкой, поит их парным молоком с аржаным хлебом, очень вкусным, похожим на забытые медовые пряники, и дарит по большому куску сахару (его хватило и с молоком пить, и домой принести - на удивление); виделось и слышалось, как потом Ксения Евдокимовна играла на пианино и они с Яшкой, завороженные, оглушенные и потрясенные необыкновенной музыкой, опять стояли рядышком с черным, грохочущим, смеющимся и плачущим комодом и долго не могли прийти в себя, ничего не понимали и не отвечали, когда барыня, перестав играть, спросила, нравится им или нет. Они хотели лезть обратно в окно, а Ксения Евдокимовна не позволила, посмеялась, сказала, что на это есть в доме двери, взяла их за руки и повела по длинному коридору, показала, как можно и надо выйти из ее белого сказочного дворца...
Не жалеть! Кого?.. Весняночку-беляночку Ию, ее покладистых братишек, их добрую, красивую мамку, чем-то похожую на тетю Клавдию? Как не сообразил об этом Егор Михайлович, умняга, весельчак, всегда такой застенчиво-ласковый... Конечно, пить парное молоко с сахаром - буржуйская привычка определенно. Но ведь от такого баловства и отучить можно. Положим, если она любит, весняночка, и у них в доме сахару много, - не жалко, пускай себе пьет на здоровье... Будет у Шурки сахар, и он попробует пить с ним молоко, привыкнет... Нет, он, Егор Михайлович, наверное, про другое думает, не про пожары, не про молоко с сахаром. Он проворчал, конечно, про ихнюю усадьбу по-своему, без злобы, может, шутя, а все ж таки словно ударил топором. И выжидательно остановился, вскинув веселые глаза на Аладьина.
Тот не оговаривал нынче мужиков за россказни про пожары и на задиранье Егора не отозвался, промолчал. Облокотясь на колени, согнувшись, он сжимал обеими ладонями большую, лобастую голову в люстриновом картузе, словно она нынче разламывалась у него на части. Видать, ему было тошнехонько, он не мог вымолвить словечка, лишь хмуро разглядывал мусор под ногами.
Вот тебе раз! Совсем не похоже на дяденьку Никиту. Только вчера, кажись, Аладьин строго спорил с Григорием Евгеньевичем, впервые сердито и прямо не соглашаясь с ним ни в чем. Шурке было жалко учителя и больно за него, больнее, чем за библиотеку. И еще больше было стыдно за Аладьина. Уж он-то всегда любил книжки, уважал Григория Евгеньевича и словно бы его слушался постоянно. Кто прав, не разберешь, не узнаешь сразу, о чем спор, и, главное, тот и другой являлись для Шурки одной правдой, самой большой и дорогой на свете, - оба они, как Данило из сказки, светили людям своими сердцами, звали народ на хорошее, доброе. Дяденька Никита не только звал определенно вел за собой мужиков и баб, а Григорий Евгеньевич подсоблял ему, помогал советами, книжками. Он только что прислал с Шуркой газеты мужикам на бревна, потом и сам пришел, ему, должно быть, надоело сидеть в библиотеке одному, разговаривать с ребятами, менять им книжки. Мужики потеснились, дали учителю местечко с краю, он слушал их, курил, молчал, пока все не разошлись. И тут Аладьин схватился с ним, с глазу на глаз, и это было всего неприятнее. Никита как бы пожалел Григория Евгеньевича, не захотел позорить его перед всем народом. "Неужели дошло до этого? Почему?.. Ах, как стыдно и больно!.. Но ведь так было, так!"
Григорий Евгеньевич растерялся, побледнел, как всегда, не смел поднять виноватых глаз на дяденьку Никиту, вот как сейчас сам Никита не может ни на кого глядеть. Учитель жалко бормотал, словно в чем-то оправдываясь, говорил, что нельзя спешить, все придет в свое время, а самоуправство, беспорядки самая страшная опасность для революции, полная ее гибель, вспомните историю, Францию, например.
Потом они пытали друг друга.
- Вы что же, эсер? - спрашивал Аладьин, пронзительно глядя на Григория Евгеньевича своими выпуклыми, карими, с золотым огнем глазами. - Али меньшевик?
- Н-нет... я беспартийный, - отвечал тот, щурясь, сердясь. - А вы, конечно, социал-демократ, большевик, ленинец, как я догадываюсь?
- В партии ихней не состою, сочувствую давно и весьма. Не скрываюсь.
Они помолчали.
- Что же нам делать по вашей истории? - насмешливо-горько спросил дяденька Никита.
Григорий Евгеньевич покраснел, точно ученик, у которого в классе спрашивают урок, а он урока не выучил и не знает, что ответить. Заикаясь, он, Шуркин бог, тихонько бормотал, повторял:
- Да, что делать?.. Именно, нуте-с, что?..
Будто тянул время, ждал, кто бы ему подсказал.
И еще тише, совсем упавшим, неуверенным голосом, точно зная, что ошибается, как Ленька-рыбак со своими нерешенными задачками, сказал:
- Ждать...
- А-а, ждала девка парня, да и состарилась, он другую, молодую, нашел, женился! - махнул рукой Аладьин и ушел, не попрощавшись.
Этого еще никогда не бывало, чтобы он не прощался за руку с учителем. Стыд, стыд!..
Шурка сорвался с бревен, убежал и был радешенек, что Григорий Евгеньевич в расстройстве его не заметил. А Никита заметил, да еще как: дал подзатыльника, когда Шурка, обгоняя, задел его чуточку, попросту сказать, налетел на него в сумерках. На подзатыльник Шурка не обиделся, он его заслужил, и дяденька Никита был сам не свой, расстроенный, ему можно и простить, он шел домой и все отшвыривал дорогой, что попадалось под ноги.
А сейчас почему-то и он, дяденька Никита, будто последний ученик в классе, не знал, что ответить глебовскому гостю, мужикам, полюбившим пожары. Егор Михайлович объяснял сам, как учитель в школе, когда задача бывала новая, трудная, какой еще не приходилось решать ребятам. Вот бы Шуркиному богу, свету и правде, Григорию Евгеньевичу, и растолковать, что непонятно народу! Нет, за него другие растолковывают, да еще с усмешкой, словно задача вовсе не трудная, каждый ее решил давно про себя правильно.
- Может, нам, как в Мёрлухе, за Волгой, попросить губернского комиссара? - напористо спрашивал Егор, и его льняная, с подпалинами, посветлевшая за весну борода тряслась от беззвучного смеха. - Там, в Мёрлухе, Капаруля-перевозчик сказывал, написали приговор: честь имеем все-по-кор-ней-ше про-сить губернского комиссара гос-по-ди-на Черносвитова удо-вле-тво-рить наши земельные нужды за счет соседних земель... ува-жа-емо-го го-спо-ди-на по-ме-щи-ка Ивана Георгиевича Бурковецкого... Ась, бес вас заешь, мытари?!
Бревна грохнули раскатистым смехом. Даже дяденька Никита, разжав ладони, уронив голову на плечо, посмеялся немного. Прыснули и ребята, слушая. Уж больно уморительно писали, кланялись мёрлуховские, совсем на колени становились, стучали лбами, как в церкви по каменному полу. Это за своим-то, в нынешнее время?! А Егор Михайлович, баловник, рассказывая, передразнивал Тюкина, подчеркнуто растягивая, рубя по слогам самые глупые слова приговора, да еще не своим - дяди Оси Тюкина голосом, очень похоже.