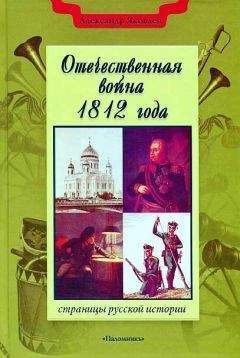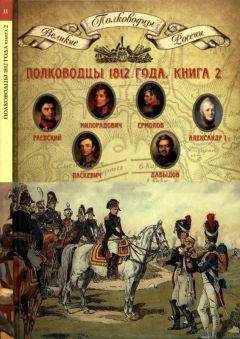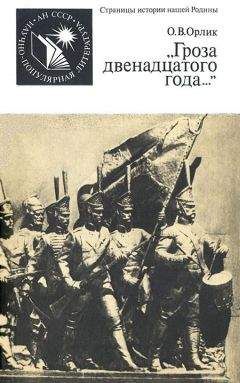Михаил Бойцов - К чести России (Из частной переписки 1812 года)
Г. С. Батеньков - матери.
25 ноября 1813 г. Город Дармшта[д]т
Милостивая государыня матушка!
Было время, в которое обманчивое воображение представляло мне счастливую ту минуту, в которую оставлю я мое отечество и пойду обозревать места отдаленные! Но сердце, исполненное к вам любви, изменило мне в самую минуту разлуки. На берегах Тобола еще проливались слезы мои. Час от часу потом удалялся я от вас, сердце грустело более и более, и наконец, я уверился, что без вас не могу быть счастливым. Но возвратить нельзя прошедшего, и мне остается одно утешение - писать к вам. Редко я имею возможность исполнять ето, служба отнимает много времени, а война лишает часто и самих способов, так что я благословляю тот день, в который могу испросить себе благословение ваше, которое подкрепляет меня в трудах и спасает в опасностях.
Хотя нет еще перемирия, но войска главной армии спокойно расположились на кантонир-квартирах(20). Мы сперва блокировали крепость Майнц, теперь же [нас] сменил другой корпус, и мы отдыхаем. Ни малого недостатка ни в чем здесь не встречали, ибо земля довольно богата. Впрочем, совершенно неизвестно, начнутся ли опять военные действия или заключат мир. Все желают мира, хотя с другой стороны, война и обещает новые блистательные почести и славу оружию союзных войск. Сражение под Лейбцигом было решительным ударом для неприятеля. Там пали силы его, вторично противу нас собранные; не будет мира, то разрушим и третью армию, которую он собирает. Об етом можно говорить надежно, ибо мы привыкли уже на каждом шаге торжествовать над французами.
В деньгах, платье и ни в чем я не имею теперь нужды. Следственно, вы можете меньше заботиться обо мне. Пишите чаще, письма доходят всегда исправно и служат большим утешением в сердечной об вас тоске. Прощайте. <...>
М. И. Платов - А. И. Горчакову.
9 января 1814 г. Селение Донреми(21)
Милостивый государь, князь Алексей Иванович!
Имею удовольствие при сем случае свидетельствовать вашему сиятельству истинное почтение мое и уведомить, что военные дела наши идут, благодарение богу, хорошо, и сегодня повстречавшаяся неприятельская партия из корпуса маршала Виктора из города Вокулёр разбита моими казаками при деревне Ере. Начальник оной и более двадцати драгун взяты в плен, много побито, и из всей партии спаслись только двое французов бегством. Я пишу вам из селения дон-Реми, что на реке Мёзе. Селение сие известно в истории французской рождением славной девицы Жан-Дарк, избавительницы Франции.
Отсюда завтрашний день с корпусом моим последую чрез города Жуанвиль, Бар-сюр-Об к городу Бар-сюр-Сен, что на Дижонской дороге, дабы отрезать неприятеля, в Дижоне находящегося, и действовать по дороге к Парижу. (...)
К. Н. Батюшков - Н. И. Гнедичу.
27 марта 1814 г.
juissi-sur-Seine, в окрестностях Парижа
...> С высоты Монтерля я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, влево Венсен, там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы подвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллерией - еще минута, и Париж засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победой. "Слава богу! Мы увидели Париж с шпагою в руках! Мы отметили за Москву!" - повторяли солдаты, перевязывая раны свои. <...>
На другой день поутру генерал(22) поехал к государю в Bondy. <...> Переговоры кончились, и государь, король прусский, Шварценберг, Барклай с многочисленною свитою поскакали в Париж. По обеим сторонам дороги стояла гвардия. "Ура" гремело со всех сторон. Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо.
Наконец, мы в Париже. Теперь вообрази себе море народа на улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара,- все, все покрыто людьми обоих полов. Все машет руками, кивает головой, все в конвульзии, все кричит: "Vive Alexandre, vivent les Russes! Vive Guillaume, vive 1'empereur d'Autriche! Vive Louis, vive le roi, vive la paix!" Кричит, нет, воет, ревет. "Montrez nous le beau, le magnanime Alexandre!" "Messieurs, le voila en habit vert avec le roi de Prusse". "Vous etes bien obligeant, mon officier", и держа меня за стремя, кричит: "Vive Alexandre, a bas le tyran!" "Ah, qu'ils sont beaux, ces Russes! Mais, monsieur, on vous prendrait pour un Francais". "Много чести, милостивый государь. Я, право, этого не стою!" "Mais c'est que vous n'avez pas d'accent", и после того: "Vive Alexandre, vivent les Russes, les heros du Nord!" (23)
Государь среди волн народа остановился у полей Елисейских. Мимо его прошли войска в совершенном устройстве. Народ был в восхищении, а мой казак, кивая головою, говорил мне: "Ваше благородие, они с ума сошли". "Давно!" - отвечал я, помирая со смеху.
Но у меня голова закружилась от шуму. Я сошел с лошади, и народ обступил и меня, и лошадь. В числе народа были и порядочные люди, и прекрасные женщины, которые взапуски делали мне странные вопросы: отчего у меня белокурые волосы, отчего они длинны? "В Париже их носят короче. Артист Dulong вас обстрижет по моде". "И так хорошо",- говорили женщины. "Посмотри, у него кольцо на руке. Видно, и в России носят кольца. Мундир очень прост! C'est le bon genre! Какая длинная лошадь! Степная, верно, степная, cheval du desert! Посторонитесь, господа, артиллерия! Какие длинные пушки, длиннее наших. Ah, bon Dieu, quel Calmok!" И после того: "Vive le roi, la paix! Mais avouez, mon officier, que Paris est bien beau?" (24) "Какие у него белые волосы!" "От снегу",- сказал старик, пожимая плечами. Не знаю, от тепла или от снегу, подумал я, но вы, друзья мои, давно рассорились с здравым рассудком.
Заметь, что в толпе были лица ужасные, физиономии страшные, которые живо напоминают Маратов и Дантонов, в лохмотьях, в больших колпаках и шляпах, и возле них прекрасные дети, прелестнейшие женщины.
Мы поворотили влево к place Vandome(25), где толпа час от часу становилась сильнее. На этой площади поставлен монумент большой армии.
Славная Троянская колонна! (26) Я ее увидел в первый раз и в какую минуту! Народ, окружив ее со всех сторон, кричал беспрестанно: "A bas le tyran!" (27) Один смельчак взлез наверх и надел веревку на ноги Наполеона, которого бронзовая статуя венчает столб. "Надень на шею тирану",- кричал народ. "Зачем вы это делаете?" "Высоко залез!" - отвечали мне. "Хорошо, прекрасно! Теперь тяните вниз; мы его вдребезги разобьем, а барельефы останутся. Мы кровью их купили, кровью гренадер наших. Пусть ими любуются потомки наши!" Но в первый день не могли сломать медного Наполеона: мы поставили часового у колонны. На доске внизу я прочитал: Napolio, Imp. Aug. monumentum(28) и проч. Суета сует! Суета, мой друг! Из рук его выпали и меч, и победа! И та самая чернь, и ветреная и неблагодарная, часто неблагодарная, накинула веревку на голову Napolio, Imp. Aug., и тот самый неистовый, который кричал несколько лет тому назад: "Задавите короля кишками попов", тот самый неистовый кричит теперь: "Русские, спасители наши, дайте нам Бурбонов! Низложите тирана! Что нам в победах? Торговлю, торговлю!"
О, чудесный народ парижский, народ, достойный сожаления и смеха! От шума у меня голова кружилась беспрестанно; что же будет в Пале-рояль, где ожидает меня обед и товарищи? Мимо французского театра пробрался я к Пале-рояль в средоточие шума, бегания, девок, новостей, роскоши, нищеты, разврата. Кто не видел Пале-рояль, тот не может иметь о нем понятия. В лучшем кофейном доме или, вернее, ресторации, у славного Very мы ели устрицы и запивали их шампанским за здравие нашего государя, доброго царя нашего. Отдохнув немного, мы обошли лавки и кофейные дома, подземелья, шинки, жаровни каштанов и проч. Ночь меня застала посреди Пале-рояля. Теперь новые явления: нимфы радости, которых бесстыдство превышает все. Не офицеры за ними бегали, а оне за офицерами. Это продолжалось до полуночи при шуме народной толпы, при звуке рюмок в ближних кофейных домах и при звуке арф и скрыпок... Все кружилось, пока
"Свет в черепке погас, и близок стал сундук" (29).
О, Пушкин, Пушкин!
...> На другой день поутру увидел снова Париж или ряды улиц, покрытых бесчисленным народом, но отчета себе ни в чем отдать не могу. Необыкновенная усталость после трудов военных, о которых вы, сидни, и понятия не имеете, тому причиною. Скажу тебе, что я видел Сену с ее широкими и по большей части безобразными мостами, видел Тюльери, Триумфальные врата, Лувр, Notre-Dame и множество улиц,- и только, ибо всего-навсего я пробыл в Париже только 20 часов, из которых надобно вычесть ночь. Я видел Париж сквозь сон или во сне. Ибо не сон ли мы видели по совести? Не во сне ли и теперь слышим, что Наполеон отказался от короны, что он бежит, и пр. и пр. и пр.? Мудрено, мудрено жить на свете, милый друг! <...>
Я часто, как Фома неверный, щупаю голову и спрашиваю: боже мой, я ли это? Удивляюсь часто безделке и вскоре не удивлюсь важнейшему происшествию. Еще вчера мы встретили и проводили в Париж корпус Мармона и с артиллерией, и с кавалерией, и с орлами! Все ожидают мира. Дай бог! Мы все желаем того. Выстрелы надоели, а более всего плач и жалобы несчастных жителей, которые вовсе разорены по большим дорогам.