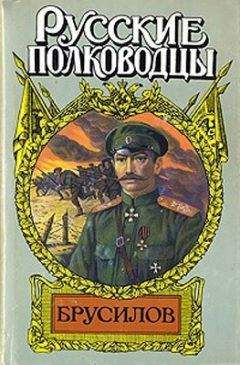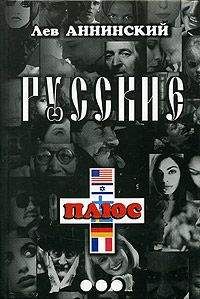Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера
«Разгромленных» в политическом отношении кулаков необходимо было «вытеснить» экономически. Им давали завышенные «твердые [трудовые] задания» и штрафовали за их невыполнение; налагали дополнительную подводную повинность; отказывали в кредите; заставляли покупать государственные облигации; штрафовали за «социальные и экономические преступления»; наконец, назначали для них специальные удвоенные цены в магазинах. Все причитавшиеся им долги были аннулированы{822}. Оленеводы Пенжинска лишились почти трети всех своих оленей в течение одной недели; от их соседей эвенов требовали уплатить штрафы на сумму почти в 30 000 рублей за невыполнение твердых заданий; а девять хозяйств енисейских тунгусов за период с 1 марта по 1 апреля 1931 г. должны были выплатить государству 34 995 рублей{823}. Это означало полное разорение наказанных хозяйств, тем более что наиболее усердными активистами были чужаки, обладавшие весьма расплывчатыми представлениями о «разнообразном родственном сожительстве» и возмущавшиеся непомерно большим размером оленьих стад. Над ними не просто тяготела необходимость поставлять мясо; они понятия не имели, что семья эвенов из шести человек едва ли сможет прокормиться, имея стадо в 400 оленьих голов{824}.
Ответ туземцев был вполне традиционным: они просили отсрочки, отмалчивались или пытались умилостивить активистов принятием резолюций вроде «Пятилетка в четыре года — очень хорошее мероприятие советской власти»{825}. Те, кто мог, откочевывали или изменяли пути миграций{826}. Когда бегство было невозможным, туземцы часто отказывались платить новые налоги и расставаться со своими оленями, как, например, пенжинский «кулак» Хачикеев, который заявил: «Мы важенок продавать не будем, а если беднякам нужны олени, так дадим без денег»{827}. (Государственные облигации рассматривались как новый налог и вызывали такое возмущение, что один чиновник предложил, что, может быть, некоторым туземцам надо выдавать по ним выигрыши{828}.) Пастухи, отнесенные к середнякам или беднякам, вынуждены были соб1лю-дать большую осторожность в достижении главной цели своей экономической деятельности — увеличения стад{829}. «Кулаки» делили свои стада между сородичами или шли на семейные разделы, чтобы избавиться от «наемного труда» (по крайней мере, пока поблизости были русские){830}. Как эксплуататоры, так и их предполагаемые жертвы совместно трудились, чтобы выполнить твердое задания и выплатить штрафы. По словам одного ироничного активиста, они «считали вполне нормальным, что они должны помочь “своему” человеку, которого советская власть “обижает”»{831}. Когда больше не оставалось людей, уловок, доводов и пастбищ, на которые можно бы было откочевать, оленеводы забивали своих животных («все равно, мол, оленя отберут… лучше самим его съесть») или убивали чиновников{832}.
Самым традиционным актом сопротивления было самоубийство. Алексею Сокоргину, эвенку, велели рыбачить на государство, покупать государственные облигации («на четвертый, завершающий год пятилетки»), рубить лес и отдавать своих оленей батракам в качестве «зарплаты». Когда его оштрафовали на шестьдесят оленей за неповиновение, он «в тот же день перерезал себе горло. Это, оказавшееся, впрочем, неудачным, покушение на самоубийство вызвало сначала большую растерянность среди всего населения Вилиги. Начавшиеся нервные припадки и обмороки среди женщин еще более усилили нервное напряженное положение»{833}. Но ироничный активист Иван Багмуг с честью вышел из положения. Общее собрание, на котором он председательствовал, осудило попытку самоубийства как «политическую демонстрацию с целью заставить совет отказаться от политики ограничений кулачества», и Алексею Сокоргину пришлось отдать еще пятьсот голов оленей, а также выполнить дополнительную подводную повинность{834}.
Кулак оставался кулаком, даже когда у него нечего было экспроприировать. В 1933 г. в Остяцко-Вогульском округе все эксплуататоры из числа коренного населения получили «твердое задание»: собрать 300 кг ягод и 150 кг грибов. Как сказал Скачко, «остались лишь одни невооруженные руки»{835}.
Охота и собирательство в условиях социализма
Теоретически раскулачивание было необходимо для осуществления главной цели кампании — коллективизации. Теория эта была, разумеется, недавней. До 1928 г. предполагалось, что малые народы Севера ведут коллективный — возможно, даже слишком коллективный — образ жизни. Когда коллективизация стала государственной политикой, Комитет Севера немедленно выдвинул соответствующее теоретическое обоснование. Согласно Скачко, главная проблема туземной экономики состояла в противоречии между оленеводством и охотой в тундре и между оленеводством и рыболовством — в тайге. Иными словами, различные типы хозяйственной деятельности требуют присутствия ведущих присваивающее хозяйство северян в двух местах одновременно: что хорошо для оленеводства, может быть плохо для рыболовства или охоты. Интеграция в большие кооперативные союзы поможет решить проблему, позволив специализированным «бригадам» посвятить себя только одному типу хозяйственной деятельности. Тем временем жены и прочий подсобный персонал будут жить на центральной базе, вдали от неудобств кочевой жизни{836}. Таким образом, будет положено начало постепенному переходу к оседлости. «Правильно поставленная охота требует от охотника быть в местах промысла лишь в определенные сроки, и нет никакой надобности круглый год таскать за собой семью, жилище и весь домашний скарб»{837}. Но в то время как Скачко, Смидович и другие руководители Комитета исходили из того, что «не стыдно кочевать в XX веке», и рассматривали переход к оседлости как отдаленный результат постепенных перемен, юные активисты сталинской революции не могли примириться с вопиющими, на их взгляд, образцами нерациональности и отсталости. В отсутствие денег и строительных материалов немедленный переход к оседлости редко выдвигался в качестве практической задачи, но для коллективизации не требовалось ничего, кроме силы и решимости со стороны «научно» подготовленных энтузиастов, которых ужасало «полное незнакомство подавляющего большинства туземцев с элементарными правилами оленеводства»{838}. Большинство традиционных форм хозяйствования казались коллективизаторам «крайне отсталыми» и «экономически нерациональными»: туземцы забивали молодых оленей, потому что «их мясо вкуснее», разводили бесполезных медведей вместо коров и теряли драгоценное рабочее время на абсурдные религиозные ритуалы{839}. Коллективизация должна была облегчить дело обучения туземцев основам здравого смысла и внедрения в их труд современных технологий.
Чтобы обобществить людей, которые живут и работают на общинных началах, нужно было решить судьбу традиционных туземных сообществ. Следует ли их использовать как ядро будущих колхозов или разрушить как источники скрытой эксплуатации? Были ли они «одной из лучших предпосылок коллективизации» или «только реакционной» помехой прогрессу? Были ли они подлинными социальными и экономическими сообществами — или «классовый враг выставляет лозунг родовой солидарности» лишь «в противовес классовой солидарности трудящихся Севера»?{840}
По всем этим вопросам велись дискуссии, но велись они после главного штурма на фронте коллективизации[80]. В разгар кампании северные инструкторы руководствовались плановыми заданиями и своим собственным пониманием партийной политики. В период с конца 1930-го по конец 1932 г. это иногда означало обобществление всего, что можно было обобществить: оленей, юрт, домашней утвари, ружей, саней, собак и капканов{841}. Такие меры не отличались популярностью. Один эвенкский охотник пьпвлся объяснить своему русскому инструктору: «Мы не вместе промышляем, а в разных местах. Я свое место знаю и люблю, Павел Михайлович свое место знает. Народ весь отдельно… промышляет. Я не хочу, чтобы в колхозе другой человек осматривал мои пасти [ловушки]»{842}. Рыбаки отказывались ловить рыбу «не для себя», а оленеводы заботились только о «своей» части коллективизированного стада{843}.
Когда от 20 до 25% всех северных хозяйств были признаны коллективизированными и было объявлено, что недостает около 200 тыс. голов северных оленей, Москва встала на защиту своей пушнины, своих оленей и своих туземцев{844}. В июне 1932 г. ЦК партии потребовал немедленно прекратить «грубое механическое перенесение в отсталые туземные районы Крайнего Севера опыта передовых районов Союза»{845}. Как и в 1930 г., местных чиновников обвинили в проведении коллективизации и раскулачивания среди народов, не подготовленных к этому по своему уровню развития. Личную собственность не следовало обобществлять; кулаков следовало ограничить и стеснить в правах — но не ликвидировать; а темпы преобразований следовало приноравливать к местным условиям. Способ исправить все эти «отклонения» состоял в «проверке руководящих кадров… в национальных округах под углом зрения их укрепления»{846}.