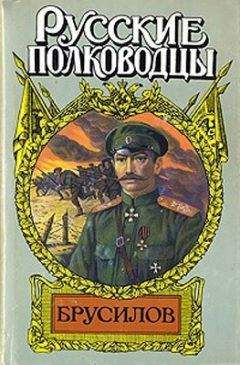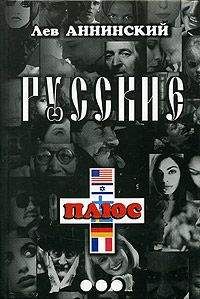Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера
По средствам производства может быть отнесен к крепким середнякам. К кулакам отношу его по имеющимся данным о спекуляции, производимой в мелком масштабе. Снабжает окрестные семьи, в том числе брата — безоленного. Продает и дает в найм оленей. Доставляет беднякам груз с фактории{801}.
Когда другой коллективизатор обнаружил меньше наемных тружеников, чем ожидал, он приписал это коварству классового врага:
Косвенное, но довольно убедительное доказательство этого можно видеть в очень странном факте безвозмездного отчуждения и приобретения оленей в кочевых хозяйствах. В некоторых из них это безвозмездное отчуждение доходит до 60 оленей на хозяйство. Казалось бы, какой хозяйственный смысл может заключаться в этом оригинальном, нигде больше не встречающемся порядке дарения? Вряд ли будет большой ошибкой предположить, что это «безвозмездное отчуждение», прикрытое формально ссылками на братство и родственную взаимопомощь, на самом деле есть не что иное, как замаскированная плата маломощным хозяйствам за купленную у них рабочую силу{802}.
В Якутии рабоче-крестьянская инспекция использовала стандартный метод подсчета оленей и пришла к заключению, что 73% колымских кочевников являются кулаками или феодалами{803}. «Беднейшие и наиболее эксплуатируемые» народы Советского Союза оказались в большинстве своем эксплуататорами и неисправимыми собственниками. По мнению И.И. Билибина, работавшего среди коряков, «вся система привычных взглядов и ходячих мнений, господствующая сейчас в тундре; вся система, с которой приходится сталкиваться при проведении в тундре какой бы то ни было работы, которая на поверхностного и обычно наивного наблюдателя производит впечатление национальной самобытности, оказывается лишь системой идеологической охраны крупной собственности»{804}.
Иными словами, вся культура коренных народов Севера была враждебна делу революции и прогресса. Следовательно, ее следовало разрушить и возродить в соответствии с принципами марксизма-ленинизма:
Их [кулаков] непосредственное идеологическое господство нередко сводит нашу советскую работу к довольно робкому культурничеству, всяческим уступкам перед ложным фетишем национальной самобытности, которые на деле принимают формы помощи наглой кулацкой самостийности. В рамки наличных производственных отношений тундры институты советской культуры не вмещаются, и поэтому перед нами стоит задача изменить решительно эти отношения, чтобы они перестали быть базой кулацкого господства{805}.
Как объяснял другой активист на побережье Охотского моря, необходимо было «разбить культивируемое кулачеством национально-племенное единство»{806}. На деле это означало, что несколько должностных лиц в сопровождении переводчика приезжали в туземное поселение или стойбище, решали, кого считать кулаком, и требовали исключить этих людей из советов, лишить права голоса, а затем «ограничить» и «нейтрализовать» в хозяйственном отношении. Первая трудность состояла в том, чтобы объяснить происходящее местному населению. Иногда не было переводчиков; иногда переводчики никуда не годились; так или иначе, новые слова и лозунги казались лишенными смысла: «Мы, тунгусы, собрались одни зимой и стали держать совет о законах советской власти и партии, что ничего мы не понимаем, хотя и ездят к нам русские работники-инструктора, уполномоченные и проч… с которыми мы не можем сговориться и нам не понятен их язык»{807}. В ответ на доклад товарища Кудашева о международном и внутреннем положении эвенки Киренского округа задали следующие вопросы: «Что такое буржуазные элементы? Что такое Октябрьская революция? Что такое религиозный дурман? Что такое мелко-капиталистические элементы? Что такое индустрия? Что такое техника?»{808}
Когда будущие колхозники поняли, чего от них хотят, они пришли в еще большее недоумение. Некоторые заявляли, что среди них нет богатых и бедных («туземцы все бедняки»){809}; и хотя большинство из них были согласны, что некоторые люди состоятельнее других, они отказывались отождествлять богатство со злодейством. «Какой он кулак? — спрашивала группа ненцев о своем сородиче, которого зачислили в эксплуататоры. — Это вовсе не кулак, а добрый человек!» «Кулак нам дал больше, а вы ничего не дали»{810}. Коряк, «работавший по найму», выразил расхожую точку зрения, заявив: «У нас нет таких, чтобы не помогали бедным; если увидят, что голоден, то накормят»{811}. В самом деле, главы семейств, которые могли «накормить» других, часто были единственной гарантией дальнейшего существования общины. Они пользовались значительным престижем и говорили с русскими от лица всех. (Василевич писала, что один тунгус, «явный бедняк», просил, чтобы его занесли в категорию «середняков»{812}.) Два пропагандиста, попытавшиеся переубедить коряков-оленеводов, так сообщали о своем фиаско:
Беднота говорит, что новая власть советская, слышали они, в их пользу, но они так делать не хотят по-новому. У нас, говорят, есть начальство, и как они будут жить, так и мы; сами же одни делать собрания не будем, говорите с нашими хозяевами, начальниками, а мы раз раньше не собирались, то и теперь не хотим собираться… Почему хотят сменять старого начальника, он у нас хороший человек, мы все равно не выберем другого и не будем собираться{813}.
Со своей стороны, старейшины и «начальники» обычно утверждали, что никогда не отказывались выполнять свои обязательства перед сообществом. «У нас который самый бедный, и мы видим, что ему плохо, то мы его кличем к себе, есть, пить у нас готово, только работай»{814}. Это, разумеется, только подтверждало худшие подозрения пропагандистов.
Каковы бы ни были их подозрения, должностные лица должны были выполнять государственные задания, и потому они продолжали давить на туземцев, отдавая себе отчет в том, что «бедняцкая масса в целом по всей тундре… считает, что она действительно кормится у богатого»{815}. Различные сочетания угроз, прямого насилия, экономического шантажа и подкупа рано или поздно приводили к нужному результату{816}. «Трудящиеся» одного корякского стойбища отказывались говорить, отказывались называть свои имена, даже отказались от чая, но в конце концов сдались и, оставив отпечатки пальцев под резолюцией против кулаков, «спешно и смущенно выскочили из палатки, где заседала комиссия»{817}. На Угуре коллективизаторы раздевали догола тех, кто не желал идти в колхоз, и «стреляли мимо них»{818}. Постепенно — по крайней мере, с точки зрения русских активистов — туземная структура власти была выявлена и вытеснена, а на смену ей пришли представители «трудящихся». Однако эта революция не привела к немедленному пробуждению классового сознания, как надеялись некоторые молодые идеолога. По словам одного вновь избранного члена туземного совета, «без богатых людей жить мы не можем. Оленей нам от богатых не надо. Меня выбрали начальником — помогать я буду бедным»{819}. Даже гордясь успешным осуществлением классовой политики, новые «туземные кадры» были склонны интерпретировать свои задачи на знакомый лад: «Я работникам говорю: живите дружно, я говорил хозяевам: не забывайте давать чаю работникам и сам давал работникам последнюю половину кирпича чаю или табаку. Хозяева дают работникам мясо, пыжиков [шкурки оленят] на кухлянки, а когда работники уходят — дают им холостых оленей»{820}. В любом случае новые начальники оставались начальниками, только пока русские были рядом. Как сказали своему инструктору ненцы, тайно выбравшие себе «князя», «родовой совет нужен вам, русским, а князь нам нужен»{821}.
«Разгромленных» в политическом отношении кулаков необходимо было «вытеснить» экономически. Им давали завышенные «твердые [трудовые] задания» и штрафовали за их невыполнение; налагали дополнительную подводную повинность; отказывали в кредите; заставляли покупать государственные облигации; штрафовали за «социальные и экономические преступления»; наконец, назначали для них специальные удвоенные цены в магазинах. Все причитавшиеся им долги были аннулированы{822}. Оленеводы Пенжинска лишились почти трети всех своих оленей в течение одной недели; от их соседей эвенов требовали уплатить штрафы на сумму почти в 30 000 рублей за невыполнение твердых заданий; а девять хозяйств енисейских тунгусов за период с 1 марта по 1 апреля 1931 г. должны были выплатить государству 34 995 рублей{823}. Это означало полное разорение наказанных хозяйств, тем более что наиболее усердными активистами были чужаки, обладавшие весьма расплывчатыми представлениями о «разнообразном родственном сожительстве» и возмущавшиеся непомерно большим размером оленьих стад. Над ними не просто тяготела необходимость поставлять мясо; они понятия не имели, что семья эвенов из шести человек едва ли сможет прокормиться, имея стадо в 400 оленьих голов{824}.