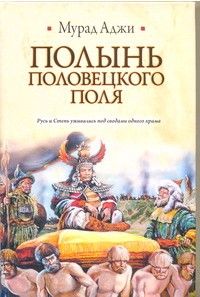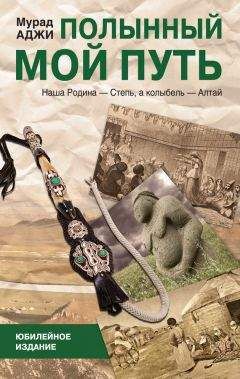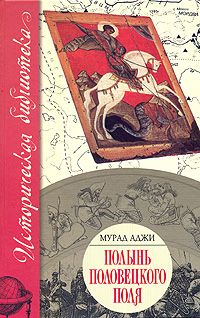Владимир Прибытков - Тверской гость
Мальчик-толстячок сделал пальцами рога, замычал, эта разобрало всех еще пуще.
Афанасий стоял спокойно, разглядывая гогочущих людей. Ну и олухи, прости господи! Чего ржут?
Наконец Асат-хан немного успокоился.
- Хорошо, - сказал он. - Хорошо. Пусть у вас пашут на конях. А дыни у вас растут не на деревьях?
- Нет. Дыни у нас не растут совсем, - ответил Афанасий. - Холодно у нас для них. Всякому растению свое нужно. При наших зимах ни арбуз, ни дыня не вынесут.
- Какие же это зимы?
- А вот когда снег идет, в шкуры звериные люди с головой укутываются, печи топят ежедень...
- Печи?
- Ну, очаг такой в доме складывают, греются возле него.
И опять все рассмеялись. Где слыхано дома нагревать? Куда тогда человеку от жары деваться?
- Удивительная, удивительная у вас земля! - произнес Асат-хан. - Все наоборот... Мужчины у вас не рожают ли?
- Ну, нет! - сказал Афанасий. - Вот у мусульман, слыхал я, грех такой случается, что мужика вместо жены держат. У нас за это убили бы.
Внезапно на площадке стало тихо. Асат-хан еще улыбался, но лица кой у кого из думных вытянулись, глаза забегали.
"Ох, кажись, на больную мозоль я им наступил! - подумал Афанасий. Пронеси, господи!"
На счастье, послышался цокот копыт, люди в беседке неестественно оживились. Прискакал воин, посланный за сумой.
Суму кинули Афанасию.
- Покажи фирман, - холодно оказал Асат-хан.
Афанасий порылся в барахлишке, достал из-под грязного исподнего бережно завернутую в холстинку, но уже изрядно потертую грамоту московского наместника князя Александра, протянул хану.
- Вот.
Грамоту принял писец, повертел, повернул вверх ногами, озадаченно сморщился.
- Дай сюда! - раздраженно прикрикнул Асат-хан.
Но и он только пялился на бумагу, как баран на новые ворота.
- Что же здесь написано? - недовольно спросил хан. - Что это за письмо?
- Письмо славянское, уставное, - объяснил Афанасий. - А написано ко всем князьям, мурзам, ханам, бекам, чтобы мне торговать не мешали, обид не чинили. И имя мое указано: Афанасий Никитин. Вон печать стоит. А дал грамоту русский князь.
Хан медленно скомкал грамоту, бросил к ногам Никитина.
- Выдумать можно многое. Не верю тебе. Не знаю ни твоей земли, ни твоих князей и знать их не хочу. Но ты сам признался, что ты христианин. Так?
- Так.
- Ты знаешь законы страны?
- Не знаю, хан.
- Все равно. Незнание закона - не оправдание. Должен был знать. А закон говорит: каждый неверный, если он ступил на землю султаната, должен принять веру пророка. Иначе его берут в рабство и обращают в ислам силой. Ты хорошо слышал?
- Помилуй, хан...
- Молчи. Ты слишком смел и дерзок, чтоб мы захотели лишиться такого человека. Мы любим смелых людей. Вот тебе мое слово: или примешь нашу веру, получишь жеребца и тысячу золотых, или будешь обращен силой, простишься с конем и станешь моим рабом, пока кто-нибудь за тебя тысячу золотых выкупа не даст. Смелые рабы мне тоже нужны. Понял?
- Шутишь, хан... - побледнев, но еще пытаясь улыбнуться, сказал Никитин. - Кто же за меня заплатит? Нет... За что же так? Ну, нельзя торговать - отдай коня, я уйду...
- Здесь не рынок и с тобой не торгуются! - отрезал Асат-хан. - Я все сказал. Эй, уведите неверного! Коня на конюшню. А за купцом следить... Слушай, ты, христианин... Четыре дня тебе сроку на размышление. В день поминовения пророка ты дашь мне ответ. Иди!
Страшные это были дни. Казалось, не успевает солнце взойти, как уже начинает клониться к закату. И что еще страшнее - этого никто не замечает. И все - прежнее. И холмы за городом, и грязь на дворе, и житейские разговоры вокруг.
Афанасий держался. Расспрашивал о стране, обедал в обычные часы, беседовал о погоде с Хасаном. Но ясно понимал, что положение его безнадежно. За ним следят. Бежать нельзя, да и не имеет смысла. Без денег и товара в чужой стране он погибнет.
А перейти в ислам - значит, отречься от родительской веры, не видать Олены, не сметь поглядеть в глаза дружку Сереге Копылову. Пакостник Микешин и тот плюнуть на тебя сможет. Отворотятся все до единого. Навсегда надо оставить мысль о возвращении на Русь. Для чего же ему тогда свой достаток и живот сохранять? Для кого жить? Чем жить? Оставалось одно - сопротивляться хану, и коли уж дойдет до последней беды, то подороже продать свою жизнь...
И вот истекает третий день. Завтра надо давать ответ Асат-хану. Завтра все решится.
...Афанасий, Музаффар и Хасан сидели в полутемной каморе подворья за трапезой. Дождь шумел. Слышались голоса соседей. Где-то за стенами, далеко, стонала вина* и тонкий голосок бродячей певицы жаловался на судьбу. Трапеза была обильная, стояло на скатерти и вино в лазоревом, с черными птицами на боках кувшине. Но его никто не пил.
______________ * Вина - индийский струнный музыкальный инструмент.
- Все же надо бежать! - отрывисто оказал туркмен.
- Куда? С чем? Да и не убежишь, поймают...
- У ворот стоит воин, - вздохнул Хасан.
- Покориться? - яростно оскалил зубы Музаффар.
- Тише.
- А что тише, ходжа? Все равно. Но если ты не хочешь принять нашей веры - это твое дело! - тогда беги! Воина убьем, всех порежу, кто помешает. Музаффар добро помнит, хорошего человека ценит, голову за него отдаст!
- Нет, Музаффар, этого я не хочу.
Музаффар ударил себя в грудь:
- Меня мать учила: оставь добрую память в сердце друга и если сумеешь все грехи аллах простит. А не сумеешь - ничем одного этого греха не искупишь. Вон, гони Хасана, а меня не трогай. Никуда не пойду.
- Почему я должен уйти? - отозвался Хасан. - Я должен тут быть. Я раб. Я не могу от господина уйти.
- Завтра и я рабом стану, - тихо сказал Никитин.
Осунувшийся, темный от мрачных дум, он сидел, уставясь в пол. Не в первый раз за эти проклятые три дня заходил похожий разговор. Музаффар и Хасан приняли его беду как свою.
Никитину пришла горькая мысль: "Не случись такого лиха, не узнал бы, что хорошие люди они".
- Ладно. Видно, беды не миновать! - сказал он вслух и потянулся к кувшину. - Только не обратит меня хан в ислам. Не дождется, чтоб русский за барыш от своей веры отрекся. Не на таких напал... А на прощанье - выпьем зелья заморского. Подымайте кружки, ребята! За хороших людей пью, за Русь пью!
Он залпом осушил кружку. Музаффар и Хасан медлили переглядываясь.
Афанасий подметил это, засмеялся:
- Ну, чего медлите? Пейте! Не бойтесь за меня, пейте! Все хорошо будет!
Теперь, когда он окончательно уверился в безысходности своего положения и принял ясное решение, ему стало легко и просто.
- Спою я вам песню, - поднялся на ноги Афанасий. - Нашу, русскую. Любил я ее...
Выждал миг, вздохнул глубоко и громко, сильно запел, покрывая шум дождя, тихий рокот вины и шумы подворья:
Вылетал сокол над Волгой-рекой,
Над Волгой-рекой, кипучей водой!
"Эх, тут бы подхватить надо!"
По поднебесью плыл, по синему плыл,
Над лебедушкой, над молодой кружил!
...Стражник у ворот, толковавший со служанкой, навострил уши. Заглохла вина. Оборвался голосок певицы. Недоуменно пожали плечами, глядя друг на друга, два мусульманина, рядившиеся о партии шелка. Все догадались - поет этот странный чужеземец, христианин, который попал в беду.
А русская песня крепла, набирала высоту, как птица, задорная, вольная, смелая.
И когда замер последний звук ее, долго еще стояла на подворье странная тишина, словно боялись люди нарушить торжественную святость минуты, которую ощутил каждый. Только дождь шумел и шумел, ровный, настойчивый.
...Музаффар и Хасан улеглись у двери. Никитин развязал суму, стал перекладывать вещи. Отложил чистое белье - завтра наденет. Перелистал тетрадь с записями о дороге. Решил - отдаст Музаффару: если он, когда вернется в Ормуз, увидит христианский люд - передаст. Все польза людям. Приложил к тетради и скомканную ханом грамоту. Чтоб убедительней было.
Кусок полотна для портянок, два старых, но крепких ремня - всегда нужную в дороге вещь, чернильницу медную, моток ниток, иглу отложил за ненадобностью в особую кучку.
С самого низу достал заветный сверток: крест нательный, надетый когда-то материнскою рукой, Оленин науз и иконку Ивана.
Поцеловал крест, надел на шею. Поверх - науз. Поставил на колени икону, вгляделся в милое лицо любушки.
Оленины глаза смотрели скорбно, рот трогала грустная складка. Она словно укоряла Афанасия и печаловалась о нем.
- Олена! - оказал он. - Погиб я, Олена... Вот уж теперь вправду не вернусь. Эх!.. Не видали мы доли с тобой. Видно, простому человеку и в Индии счастья нет!
Всю ночь он молился, вспоминал Марью, Иону, Василия Кашина. Мать и отец, как живые, предстали его взору. Потом почему-то горящее Княтино, рыжий мужик, товарищи по ладье...
Он всех вспомнил, у всех попросил прощенья и всем все простил.
Ночь летела за оконцем душная, чужая, беспощадная. Музаффар и Хасан спали или делали вид, что спят. Он сидел и ждал, почерневший, сосредоточенный, одинокий.