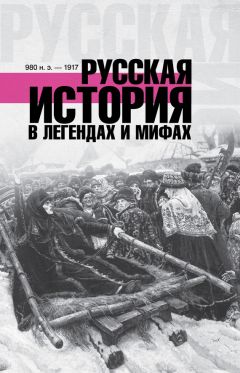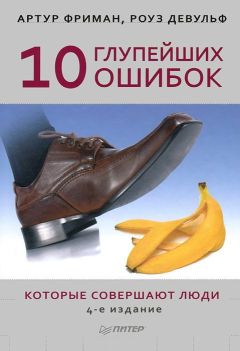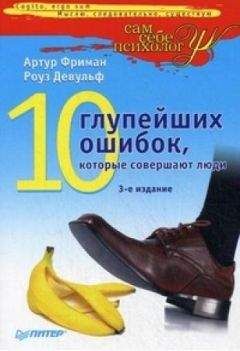Карина Кокрэлл - Мировая история в легендах и мифах
«Как я жил тут раньше? Как живут тут люди, чем живут?!» — подумал беглый, беспутный константинопольский этериарх.
Дочери должно было быть лет пятнадцать, но выглядела она старше — широкая в кости, взгляд упрямый, горький, как у взрослой бабы. Хоть толком в темноте избы разглядеть он ее не мог, видно было, что девка выросла ладная. Не мышонком сидела в избе — хозяйкой. «Если принарядить, причесать да умыть как следует…» — подумал он и спросил:
— Как живешь, Хельга?
Пожала плечами, словно он спросил явную глупость:
— Выбуты не дают пропасть.
Опять неловкое, долгое молчание — густое, тяжкое, которое, кажется, можно было резать ножом.
— Челн у меня теперь: перевозом занимаюсь через Великую. Старый перевозчик умер, никто не хотел, а я взялась. Люди платят. Кто — монетой, кто — маслом да медом.
Феодор посмотрел на дочь с изумлением. Отложил ложку:
— Сыт я. Вкусна твоя каша.
Она спросила, не поднимая глаз от еды:
— Глаза кто лишил?
— На службе потерял… Мать как убило, когда? — выдавил он самые трудные слова, которые рано или поздно все равно нужно было произнести.
— В прошлом мае. Волхвы сказали, Перуну она нужна стала… Он ее и забрал, — бросила вдруг девчонка с неожиданной, но явной издевкой непонятно над кем.
— Что это твои этникосы мелют?..
Она слышала это слово раньше. Так те, кто вернулся из Царьграда, иногда называли волхвов, да и остальных в Вы-бутах. Выплевывали это слово презрительно.
Подняла на отца глаза и по-настоящему испугала его тем, как моментально изменилось ее лицо — стало заостренным, неподвижным, очень взрослым, пугающим своей мгновенной переменой, заметной даже в полумраке.
— А вот так. Ты вот — бросил, а Перун — взял.
Колкая девчонка выросла. Если в ней столько же и ума, сколько злости…
Варяг вскочил, звякнула кольчуга.
— Ты как с отцом разговариваешь, поганка?!
Лицо девчонки до неузнаваемости изменилось еще раз.
— А, так ты мой отец! — хорошо разыграла притворное удивление Ольга, пряча за ним то, как понравились ей его слова. — А я-то думала, просто путник. Мимо шел — а тут кашей пахнет.
И отцу стало совсем не по себе с этой своей вновь обретенной дочерью.
— Я тебе сейчас покажу путника… — начал было Феодор, но голос прозвучал устало, виновато, угрозы не получилось. Знал, что надо бы хлопнуть дерзкую по лбу ложкой, но остерегся. Бывший этериарх почему-то не без удовольствия опять подумал, что побаивается своей веснушчатой рыжей дочки. Порывисто встал с лавки, поворошил в куче своих сваленных в углу пожитков, сразу, ощупью нашел кожаную бутыль и жадно присосался к крепчайшему свейскому меду, каким запасся впрок, оставляя караван на Волхове. Кольчуга его опять жалобно звякнула.
В свете лучины Ольге сейчас хорошо видна была запрокинутая кадыкастая шея этого незнакомого, чужого человека и его единственный, закрытый от наслаждения глаз. А Феодор глотал сладковато-пряную жидкость и знал — сейчас, очень скоро, просочится в его тело и душу спокойное счастье, которое всегда примиряет его со всем и делает все неприятное и трудное — неважным, незначительным, несуществующим. Мозг начал напитываться и набухать знакомой радостью, без которой — недавно он убедился в этом окончательно — он уже никогда не сможет жить.
Он перевел дух и посмотрел теперь на Ольгу решительнее:
— Помоги кольчугу стянуть.
Она не шелохнулась.
Он вздохнул: ненавидит. Ну что ж, есть за что. Кругом виноват. Пришлось самому. Кольчуга и брони у него были легкие, крепкие, кузнецу на Влахерне дорого плачено. Он сел за стол, распространяя запах крепкого пота. Бережно, словно спеленатое дитя, положил тугой винный мех на столешню.
Ольга встала — убрать миску со стола, отвернулась к печи, стараясь не разреветься от того, что этот незнакомец оказался совсем не тем, кого она так ждала. А кого она ожидала? И сама не знала. Но ей почему-то сейчас ясно стало: не задержится отец у них в Выбутах. И она все равно, как стала после смерти матери ничья — в Выбутах так и звали ее «Ольга Ничья», так всегда и будет.
Бывало, иной путник на переправе через Великую норовил паромщицу то там тронуть, то здесь — кто невзначай как бы, а кто — руками блудливыми, настойчивыми. Она и волосы под шапку прятала, и одевалась как парень — в порты, тулуп и рубаху, но не помогало и это. Иные сразу отставали, а иные свирепели. От таких вот, разозленных отказом, было особенно тошно. Ольга отпрыгивала на корму челна и, как копье, половчее перехватывала багор с железным крюком на конце: только посмей, сунься — в неустойчивом челне она была хозяйкой. И остывали, замерев. Убьет ведь и глазом не моргнет, рыжая варяжка!
А Ольга думала: вот ведь все разные, а с одинаковыми похотливыми руками и уверенностью, что никуда она не денется.
Она — ничья, с ней — все можно…
И вдруг — новость такая, которой она испугалась и поверить: купец Акуна, отец соседских близнецов Прекрасы и Войки, что сразу после половодья вернулся из Царьграда, сказал Ольге, встретив ее на улице у ворот:
— Отец-то твой, Хелгар, возвращается, кажись, из Столицы[147]. Повстречал я его там. В Выбуты он собирался. Про тебя спрашивал. Про Добромилу… Эх, да что говорить: из Царьграда путь неблизкий. Может, доедет живым, а может, и нет. А коли передумает домой, то, наверное, к франкам подастся: франки хорошо платят, Одноглазый-то в Царьграде, я слыхал, начальник тамошним воям, называется «этери…», «тери…» тьфу, забыл, как его! Так что на возвращение его не особо надейся. Может, и вовсе он просто так болтнул спьяну. — Про то, как болела у него, Акуны, голова после ночи застольных разговоров с земляками-русами на подворье святого Мамонта, купец говорить, конечно, не стал, да и не очень помнил остаток ночи.
Все последнее про какого-то непонятного одноглазого Ольга пропустила мимо ушей. Осталось только это: «В Выбуты твой отец собирался. Про тебя отец спрашивал». Как же ее тогда захлестнула радость — помнит, знает о ней, значит — вернется! Закончится одиночество, отцу-то до нее будет дело.
Радости своей Акуну показывать она не стала — не вспугнуть бы, только буркнула:
— Вернется — хорошо. А нет — будем жить, как жили. — Сказала, как будто не одна она жила теперь в своей избе.
А сама уже с позапрошлой полной луны нет-нет, да и выходила посмотреть на дорогу, ведущую берегом, и на переправу неслась, спотыкаясь, не пропустить бы отца. Отталкивалась веслом от илистого днища с темноты до темноты и всматривалась во всех путников на берегу, что шли мимо ее переправы к другим переправам — тем, что сразу за слудами[148] или еще дальше — к бродам. И всадники, телеги с поклажей все шли и шли от Волхова, но все не то…
…А когда отец много дней спустя вошел в избу, когда уже и ждать перестала, она только взглянула на него, и радости никакой не почувствовала: незнакомец оглядывал все с брезгливостью своим единственным глазом. На службе, поди, потерял! Ладный весь по-нездешнему, даже после такой дальней дороги. Даже повязка на глазу — и та ладная.
И Ольга решила, что ничего не скажет ему о том, как трудно, одиноко и страшно было ей оставаться в этой потемневшей избе с того самого прошлого мая, когда они с матерью пошли вдвоем по ягоды, тут недалеко, в Лыбутин лес — и пели, и кукушка накуковала им столько лет, что и не сосчитать. А потом, — они уже собирались с полными лукошками домой, — неожиданно налетел ливень, и они побежали переждать — под огромный дуб у реки. И мать хохотала, бежала и кричала на бегу: «Поспевай, Олюшка, да ягоды не растеряй, земляники насушим мы с тобой, лукошки-то, погляди, пол-ны-полнехоньки!» Она и под дуб подбежала первая, Ольга-то отстала и бежала, а мать стояла под неодевшимися еще, черными дубовыми ветвями и махала Ольге, чтобы та быстрее — к ней, в укрытие, под ветви… А ствол был старый, ветви узловатые, и дупло, как раз у матери над головой, — словно рот в немом вопле… А потом что-то вспыхнуло. Ольга не успела понять и только увидела, как мать взмахнула рукой и обрушилась, словно поскользнувшись. Ольга сначала так и подумала — что мать просто поскользнулась на мокрой траве. И только когда после ее падения раздался звук, словно с оглушительным треском разорвался чей-то зацепившийся за куст гигантский подол, Ольга по-настоящему испугалась. И, уже обнимая мать, пытаясь ее поднять, целуя ее мокрое лицо, поняла, что теперь — ничего не поможет. Лукошки опрокинулись, и вся пахучая красная земляника рассыпалась по мокрой, новорожденно-зеленой траве. И она гладила лицо матери, и утирала дождь со своего лица, и вся перемазалась соком, как кровью. И с тех пор запах земляники стал для нее запахом беды.
Кричала она долго, и только потом отстранилась, и увидела: лицо, которое она все целует, — уже незнакомое, уже совсем чужое. И она перестала плакать, и не пыталась больше поднять мать, перестала кричать ей бесполезные слова, чтобы не уходила, не бросала. И поняла, что по какому-то своему злому замыслу Громовик решил оставить ее на земле одну. И она тогда совсем сошла с ума и, замирая от своей дерзости, стала кричать Перуну ужасные ругательные слова. Чтобы Громовик сейчас же услышал ее и тогда уж поразил и ее тоже — потому что жить одной в опустевшей темной избе, без матери, было невыносимо. И чем дольше она кричала небесам свое детское, бессильное похабство, ее испуг, скорбь и неверие в случившееся стали понемногу вытесняться злым весельем. А потом поняла: не поразит ее Громовик. Либо обессилел, либо уж откатил куда-то на своей грохочущей небесной телеге вместе с сине-черными тучами. Либо даже ему она не нужна нисколько со своим смешным вызовом. И вышло солнце. А она, уложив мать на траве поудобнее, все сидела под деревом — мокрая, в земляничной «крови». И тихо, зло смеялась.