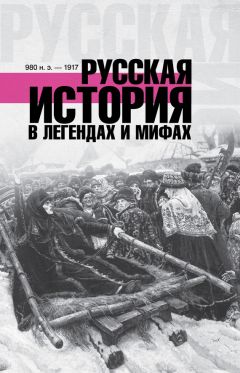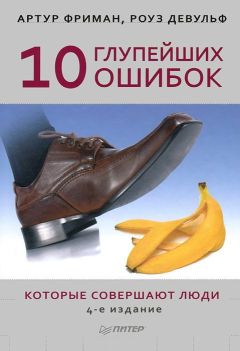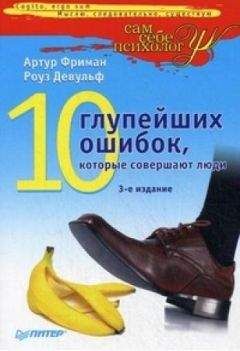Карина Кокрэлл - Мировая история в легендах и мифах
— А сыну моему скажите… Скажите: ни о чем не жалею. Пусть судит. Люди — пусть судят. Только знайте: «И видел я под солнцем, что не проворным достанется успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их»[140]. Время и случай, дуры! — громко повторила она.
И после этого, поговорив до вечера с Господом (к ужасу монахинь, вполне на равных) и, несомненно, о чем-то важном с Ним договорившись, инокиня Анна соборовалась, и сказала с неожиданной лукавой улыбкой, от которой у настоятельницы мороз пробежал по спине: «Оно так: «Суета сует!» А все ж не жалею ни об одном дне сует моих! Лукавил Соломон![141] Лукавил. И он не жалел! Слышите, куры?!»
Так и умерла императрица Зоя, прозванная Угольноокой. Хелгара-Феодора, бывшего этериарха, в тот день уже не было на свете.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Выбуты. Юность Ольги[142]
Возвращение варяга
Константинополь растаял и остался в прошлом. В настоящем — у Феодора были теперь родная деревня Выбуты и бесконечный лес, который разрезали реки Великая и Плескова — плещущие серебристыми рыбьими боками, шепчущие или шумящие на перекатах.
Он добирался сюда из Царьграда по нехоженым, диким лесам и пустынным рекам так долго, что казалось — дороге не будет конца. Ждал и страшился встречи с дочерью.
Ее он видел только один раз, сразу после ее рождения — сморщенное, мало похожее на человека существо, которое вдруг посмотрело на него неожиданно осмысленными глазами. Жена Добромила, может быть, и в пику варяжке-свекрови, переиначила имя дочери на кривичский лад, называла дочь не Хелгой — Ольгой.
Кривичи и варяги давно перемешались в этих поселениях среди лесов, на берегах Великой и Плесковы. Варяги пришли сюда из Невогарда[143], а туда перебрались из земель свейских и фризских еще во времена Рюрика. А потом приплыли на драккарах и поселились здесь, в плесковских черно-зеленых чащобах кривичей, среди непуганых птиц и зверей. Понравилось место: подальше от князей — сами себе хозяева. Местные отнеслись к их появлению спокойно, а точнее — никак не отнеслись, селитесь: лес велик, земли и богов на всех хватит. И плесковского леса, вправду, на всех хватало с лихвой. Деды-то еще помнили язык свейских и фризских пращуров, варягов, а сыновья и внуки уже совсем ославянились.
Охотно принимал варягов император Константинопольский на свою службу. И сидели потом бывшие императорские служивые в выбутских избах, топившихся по-черному, кашляли и отплевывавались от дыма, лезшего в нутро, и ругались — порой то греческими словами чудными, длинными, торжественными; то по-варяжски, отрывистее, точно кто бычьи пузыри надувал для потехи, и они лопались; то по-славянски, хлестко и переливчато. И вели за чаркой разные мужские разговоры: отскакивали от дубовых кругляков слова «катафракта»[144], «паракимомен», «гинекей», «василевс». И мерцали в лучинной полутьме безоконных изб нательные кресты — железные, серебряные, даже золотые. Не у всех — принимать греческого бога не все решались, но у многих. Крестами гордились, это был знак, по которому в братство «царьградцев» принимали сразу. И они, вой, отчаянно приукрашивая и привирая о своих доблестях, рассказывали своим исцарапанным забиякам-сынкам о Золотом Царьграде, самом великом городе на всей земле. Мальчишки были не промах, по шишкам сызмальства как по траве ходили, и на мякине их было не провести, но отцам про Царьград верили и видели о нем сны. И манил их этот город, как манил их отцов. А когда умирали служивые русы-царьградцы, просили родню о странном — не сколачивать погребальных ладей и не отдавать пепел, по обычаю, реке и ветру, а зарыть их как есть в землю, словно семя для будущего всхода.
А над всем над этим равнодушно куковала никогда не видимая, потому и загадочная плесковская кукушка, эта неумолимая русская мойра[145], отмеривая годы — кому сколько. И под ее «ку-ку» выбутский лес поглощал все пришлое — и греческие слова, и варяжские, и иные, как покрывают мхи павшие деревья — ничего ведь потом от коряг этих не остается: только бесконечный, торжествующе-зеленый ковер мха.
Бывший этериарх Феодор слишком много видел, много думал и слишком много пил, а все это вместе неизменно делает человека философом.
После императорской службы в Выбуты возвращались не все — кто-то навсегда оставался в этой самой великолепной на земле клоаке по имени Константинополь. Кто-то, у кого еще были силы, а заработанные деньги и жизнь просажены до сей поры вообще невесть на что, шел искать счастья дальше — наемником к франкам, германцам, италийцам.
Но были и те, кто возвращался на родину.
Если было счастье выжить, отпускали варягов-наемников с новым оружием, отличными паволоками, серебряной посудой и другими богатыми дарами за службу. И с честью. Вот только у него, бывшего этериарха Феодора, все получилось иначе… Хорошо еще, ноги унес. Здесь, в Выбутской веси, в такой дали от дворцовых распрей и ядов, — кому он нужен?
Феодор вернулся в весь Выбутскую под вечер. Повезло ему тогда: только вошел в избу — и разразился ливень, неся облегчение тяжелым, сине-серым облакам, что целый день, пока он гнал коня от Волхова, беременно нависали над дорогой и летними лесами.
В избе было совсем темно. Лучина в углу светила с ленцой, словно делала одолжение, отражалась в корчажке с водой под нею так, что казалось — огней два.
За столетней, лицом к двери, сидела девчонка в темном платье, а может, и не темном — что в таком лучинном мраке было разглядеть? — и что-то с удовольствием ела, стуча деревянной ложкой. Пахло вкусно. Взглянула на него, замерла вся на мгновение, увидев… И опять застучала ложкой. Было что-то щемящее в этом ее одиноком обеде…
— Хельга? — сделал он шаг.
Вот тогда она и подняла на него глаза как следует, и он осекся. И все заготовленные для дочери слова, и оправдания, и объяснения, которые ничего не объясняли, просто укрывали и повторяли разными способами, более и менее удачными, одну и ту же мысль — «прости!» — оказались не нужны.
Она встала, и он замер, не зная, что же теперь говорить или делать, и что она сейчас сделает или скажет.
А она подошла к двери, где стояло ушатце с наброшенной ветошкой:
— Давай на руки-то солью…
Феодор с радостной готовностью подставил руки.
«Высокая-то какая вымахала!»
Вода буднично зажурчала в кривой корчаге.
Приняла? Простила? По лицу ее ничего сказать было нельзя. Он все рассматривал ее и силился вспомнить Добромилу: на кого дочь больше похожа? Коса роскошная на груди, толще корабельного каната и, вроде… рыжая. И веснушки, веснушки — веселой полосой по носу и щекам, как у него!
Ольга сдернула с гвоздя на печи еще одну ложку, положила на столешню, сняла горшок с очага, поставила перед ним и как ни в чем не бывало продолжала есть. Вот так, молча, они и ели, стуча ложками, украдкой поглядывая друг на друга. Только на мгновение прервался он, чтобы распоясаться. Положил на лавку свой любимый короткий испанский меч, который вместе с отличным седлом купил у одного армянина в гавани Юлиана. Хотелось снять и сапоги, но передумал. И с удивлением подумал тогда, что робеет перед этой незнакомой девчонкой.
Он был рад, что дочь ничего не говорит, не спрашивает, просто кормит его — и все. Но вскоре молчание стало ему невыносимым:
— Одна живешь?
Она посмотрела на него так, что он пожалел о своем вопросе:
— Не одна. С домовыми.
— Каша хорошая. Масло где берешь?
Ольга заметила, что в речи его был чуть заметный чужой выговор.
— Бабка Всеслава приносит. Корова у нее.
Он огляделся. В избе чисто, но до чего ж убого. Земляной пол. Мыши или птицы шуршат в гнилой соломе крыши? Или это дождь? Беленая печь, которую он и сложил когда-то. Огляделся. Он помнил эти бревна еще светлыми и звонкими. Они теперь почернели, смотрели насупившись, с укором. Не изба, а пещера. А ведь сам он и ставил эту избу с отцом и братом (давно уже обоих пожрал огонь в погребальных ладьях).
На черных закопченных бревнах были развешаны какие-то цветные обереги — ленточки, перышки. Единственное косое окно, за которым сейчас что-то настойчиво шептал осенней тьме ливень, затянуто чуть провисшим бычьим пузырем, как бельмом. Феодору теперь казалось, что никакого Царьграда нет, и рынка в Юлиановой гавани нет, и Вуколеона, и нет никаких порфировых спален и потайных ходов, нет ни таверны «Эпсилон», нет и не было никогда ни золотых куполов Святой Софии, несомненно построенных при содействии Небес, ни воплей императорских глашатаев на площади перед церковью Неа, нет и не было никогда тех статных, какие редко бывают в жизни, зеленых бронзовых коней над входом в Большой Ипподром[146], не было в его жизни ни сожженной Тавурмины, ни воплей агарян, ни испуганных вскриков чаек над Босфором, ни императрицы Зои с ее глазами-затмениями — все это ему только приснилось.