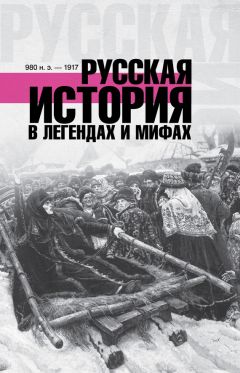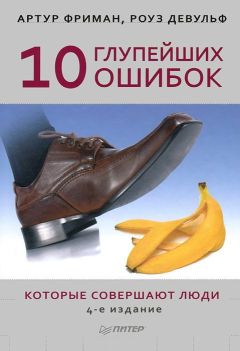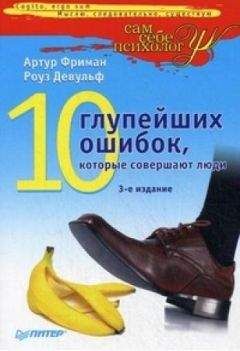Карина Кокрэлл - Мировая история в легендах и мифах
Реальность мира уплыла для него куда-то за окно, в ночной прибой Пропонтиды.
Она внимательно рассматривала его и водила пальцем по его кожаному наплечью, словно выписывала какие-то буквы:
— Твоя этерия пойдет за тобой, когда вы понадобитесь мне?
«О чем это она? Пойдет — куда? Ее ведь готовят к постригу?»
Рука Зои — напряженная, ласковая! — тянется к его шее.
Уж и не дышит почти завороженный, зачарованный этериарх, закрыв свой единственный глаз.
Императрица стягивает повязку с его выжженной глазницы.
Он знает, что рана зажившая, но страшная. Игемона не боится, не вскрикивает, как иные женщины. Трогает рану прохладными пальцами. Он, конечно, не видит сейчас и не знает, что игемона смотрит на него странным взглядом — не как на мужчину, скорее как на любопытное существо, которое никогда не видела так близко.
— За тобой… Богопомазанная Игемона… хоть в ад, хоть на морское дно… — слышит он свой голос и открывает глаз, потому что прикосновения вдруг прекратились.
— На морское дно — незачем… пока. А ад — это очень может быть, — довольно улыбнулась она одними губами, глаза — серьезны. Его ответ понравился.
Скользнула по этериарху невидящим взглядом, повернулась и ушла в невысокую массивную дверь. Не сказав больше ни слова, этериарх опять закрыл глаза и опять увидел лицо императрицы — как остается под закрытыми веками изображение чего-то ослепительно яркого.
И тогда он обреченно подумал: императрица в своем затворничестве сошла с ума.
На следующий день Зою постриг в монахини сам патриарх, и под именем Анны она была сослана в далекий монастырь на острове в Пропонтиде.
Вот тогда неожиданно для всех этериарх Феодор стал просить позволения оставить службу: земляк из Выбутской веси, прибывший наемником в Константинополь, сказал, что Добромилу, брошенную Хелгарову жену, убило грозой, и дочь его, Хельга, теперь бедует в Выбутах сиротой уж больше года.
А пока он ждал разрешения покинуть Вуколеон, случилось вот что. Уже с неделю как прибилась к нему собака — лохматая, ничейная, с печальными, человеческими глазами, предрасположенная к столь же «человеческим» тяжелым вздохам. Феодор привязался к этой живой душе и подумал взять ее с собой на Русь, дочке в подарок. И однажды, перед тем как начать обед, бросил этой вечно голодной животине кусок говяжьего жира с тарелки. И собака вдруг забилась в конвульсиях, сводя на полу длинные мохнатые лапы. И умирала бы долго и мучительно, если бы он, не выдержав ее мук (и при этом не опрокинув расколотившуюся о плиты пола баклагу с вином), не облегчил собачьих страданий тем же ножом, каким ел, поняв вдруг, что неспроста прибилась к нему вдруг эта странная собака с человечьими вздохами. Он остался жить: видимо, для чего-то или для кого-то еще нужна была его жизнь.
И в этот день варяг из выбутской веси Хелгар, а ныне — этериарх вуколеонский Феодор понял, что узнал о мире все и даже больше, и что надо возвращаться домой.
И в один из рассветов, так и не дождавшись разрешения оставить службу, переодевшись купцом, Хелгар-Феодор уже уплывал из Константинополя с торговым караваном, что шел через Русь — к свеям и германцам.
…Хелгар-Феодор смотрел, как Константинополь-Царьград уменьшался и исчезал за кормой купеческого струга.
Город, задуманый его основателем Великим Константином как воплощение Царства Небесного, свободный от языческого прошлого, город истинной веры и новых, праведных людей… Не получилось у Константина: люди остаются верны своей природе, о которую всегда разбиваются подобные попытки. Зато совершенства зрительной гармонии в Константинополе достигли, это же гораздо легче!
От Влахерна до Вуколеона звонили колокола сотен церквей, разрывая Феодору сердце. Русский варяг знал, что никогда не сможет забыть этого святого и прбклятого места, и что вряд ли когда-нибудь еще увидит его единственный глаз такую красоту. Этот город встретил Хелгара и отпускал теперь Феодора — этот город изменил его навсегда, так и не приняв, не став ближе.
Покачивался, махал вслед и исчезал со всеми своими мощными, словно выросшими из самой земли стенами, куполами и холмами центр Ойкумены — притягательный, равнодушный, жестокий, многоголосый, многоязыкий, сумасшедший, высокомерный, полный шума, жизни и движения город с запахами дикого базилика, церковного ладана и морской воды. И долго плыл вслед над водой воскресный благовест Святой Софии — единственного места на земле, где, как был совершенно уверен Феодор, и вправду сошли на землю Небеса.
Патриарх Николай Мистик окажется никудышным правителем. Он начнет совершать одну ошибку за другой. И наконец, вызовет страшное недовольство византийцев тем, что сам отправится в ставку болгарского царя Симеона и предложит ему неслыханное — титул ромейского василевса в обмен за поддержку в случае мятежа против его власти. Патриах боялся собственной столицы. И правильно делал. Константинополь восстанет и потребует на трон василевса Константина. И регентом — императрицу Зою. Николай вынужден будет смириться.
И Зоя Угольноокая вернется из монастыря с триумфом, словно знала она, что так оно и будет. Вернется и, расправившись со всеми своими врагами, привычно воссядет на золотом Магнаврском троне вместе с сыном. Потому что постриг ее окажется недействительным[136]. Основным условием, как известно, является соблюдение перед постригом строжайшего поста, а она наелась мяса накануне ночью и потом предъявила Синклиту свидетелей. Евнух ее поклялся под присягой, что мясо в Маргериту доставил этериарх варягов Феодор. Не прошло и месяца, как полусъеденный рыбами труп евнуха с перерезанным горлом прибило к Вуколеонской набережной. Феодор тогда был уже очень далеко от Пропонтиды…
«Втечете следующих восемнадцати месяцев ей удалось отвоевать у халифа Армению и посадить там на трон занимавшего строго провизантийскую политику князя Ашота. Зоя также нанесла поражение еще одной мусульманской армии, вторгшейся на имперскую территорию из Тарса, в пух и прах разгромила третью армию в окрестностях города Капуи — восстановив таким образом престиж Византии на Апеннинском полуострове. К концу 915 года у подавляющего большинства ее подданных сложилось мнение, что императрица Зоя не умеет совершать ошибки»[137].
Однако потом удача изменила маленькой императрице — ее армия стала терпеть поражение за поражением, перегрызлись между собой честолюбивые полководцы и адмиралы, в столице начались мятежи, и власть из Зоиных рук выхватил друнгарий[138] Роман Лакапин — талантливый армянский крестьянин, сделавший головокружительную карьеру на флоте. Он и заставил несовершеннолетнего Константина низложить мать. С этого момента все в империи решало слово узурпатора-друнгария.
Зое пришлось пережить вторичный постриг. Роман Лакапин день и ночь оставлял при ней неусыпную стражу. Четырнадцатилетнего Константина Багрянородного Роман женил на своей дочери Елене. Еще десять лет Константин прозябал в тени узурпатора «василеопатра»[139] и его никчемных сыновей, которых Роман тоже возвел на престол. Да, Византией в то время правила целая толпа императоров, к Магнаврскому трону пришлось приставлять дополнительные «скамейки». Хотя надо отдать должное старому армянскому адмиралу: убедившись в полной бездарности своих сыновей, он официальным завещанием все-таки оставил трон не им, а Константину Багрянородному. Это решение полностью поддержала столица: многострадального императора в Константинополе жалели. Мать Зою после второго пострига живой он уже не увидел.
В монастыре Зоя очень быстро превратилась в старуху. У нее выпали зубы, ее волосы совершенно поседели и безнадежно спутались в колтун: она не давала их стричь, словно из протеста против последнего, насильного, пострига. Зоя умудрилась упасть и сломать ногу, и теперь ковыляла по поросшему соснами песчаному монастырскому двору, тяжело опираясь на клюку, которой пыталась достать зазевавшихся послушниц, посмевших назвать ее не «василиссой» или «игемоной Зоей», а «сестрой Анной» (это имя ей дали в монашестве). Наконец настоятельница приказала отнять у бывшей императрицы ее клюку, и после этого Зоя уже не встала со своей узкой кровати в каменной безоконной келье с низким потолком, напоминавшем крышку гроба.
Когда началась агония, к ней пришли монахини, морща тайком носы от ужасного запаха. Они увещевали ее примириться с именем сестры Анны, причаститься и покаяться смиренно. Бывшая императрица, вся в гнилостных пролежнях, села на ужасной своей постели, пронзила их своими странными, не отражающими света и оттого кажущимися совершенно черными глазами — единственно неизменное, что оставалось теперь в ее морщинистом, иссохшем лице. Она стянула с пальца тяжелый перстень, которого не снимала никогда, запустила его в стену, чуть не попав в лоб послушнице Агафье, и удивительно четко, спокойно проговорила: