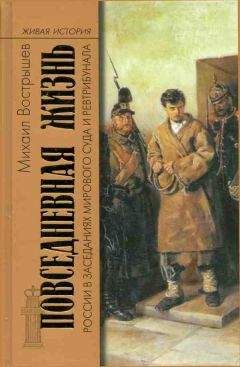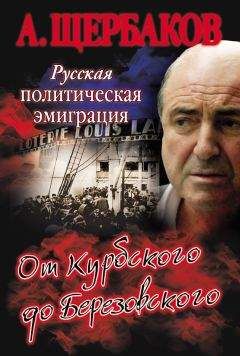Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Однако вряд ли он сам безоговорочно верил этим своим предсказаниям. В письмах его настроение совсем другое. Например, вот в этом, написанном всего через год после переселения на берега Сены: «Видели ли вы когда-нибудь, как лошадь подымают на пароход, на конце парового крана? Лишенная земли, она висит и плывет в воздухе, бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой… Это — я».
Похожий образ возникает в свидетельствах мемуаристов. «В тридцатых годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями, поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина», — пишет в своей русской автобиографии Набоков. Узнал ли он в спившемся, беспомощном человеке того большого писателя, которым несколько лет назад восхищался, отзываясь на купринский сборник «Елань», где Набокова поразил талант «предельной проникновенности», очаровала необыкновенная «точность и чистота выражений»?
И у Берберовой было то же чувство несовпадения писателя Куприна с Александром Иванычем, который стал похож «на старого татарина»: «покачивал головой, опустив руки, и казался дряхлым и сонным». Берберова призналась ему, что в юности «Яма» была для нее откровением: «Ни одна книга не имела на меня такого воздействия». Куприну, кажется, были безразличны эти восторги, он в ответ только попросил придвинуть поближе вазочку с вишнями.
Разговор происходил в 1929 году. Когда через восемь лет Куприн уехал, по Парижу гуляли слухи, что он это сделал не по собственной воле. Берберова во всем винит его дочь, красавицу Кису, снимавшуюся в кино: она рассчитывала на контракты с «Мосфильмом» и уговорила отца вернуться, а сама передумала и осталась — ее репатриация состоится только в конце 50-х годов. Другие говорили, что решение было принято женой писателя Елизаветой Морицовной, Куприн просто подчинился. Чтобы как-то поддержать семью, когда Куприну стала не по силам работа за письменным столом, Елизавета Морицовна завела небольшой книжный и писчебумажный магазин в 15-м арондисмане, на рю Эдмонд Роже. Там, в особенности на бесконечно длинной авеню Коммерс, было великое множество мелких лавочек, торговавших то фруктами, то бельем, то посудой, и все они потихоньку прогорали. С заведением Елизаветы Морицовны произошло то же самое, тем более что по-французски она говорила скверно и не обладала даром занимать покупателей. Магазинчик превратился в платную библиотеку для русских, однако из этой затеи тоже не вышло ничего путного. Устав от нищеты, она сочла, что родина, уж во всяком случае, прокормит.
Что в этих объяснениях домысел, что истина, наверное, не будет установлено никогда. Воспоминания Ксении Куприной, где описано ликование родителей, когда посол Потемкин, вскоре отозванный из Парижа и ждавший ареста, вручил им советские паспорта, не вызывают доверия. Она пишет, что несколько ночей после их отъезда ей звонили, «анонимные голоса изрыгали злобные выкрики, сулили тюрьму и расстрел моим родителям в страшной совдепии», но делает вид, что там, в совдепии, летом 1937-го ни тюрем, ни расстрелов не было. Единственное, что остается в памяти прочитавших главу «Мрачные годы», предпоследнюю в ее книге, — парижский Северный вокзал, почти ни одного провожающего и корзинка на коленях Куприна: там сидел старый кот Ю-ю, опоэтизированный им в знаменитом одноименном рассказе 1925 года. Про Ю-ю пишет и Берберова: общий любимец, он так растолстел и обленился, что, забравшись погреться на радиатор, орал, чтобы его сняли, — спрыгнуть было для него непомерным усилием. Запомнил этого кота и Андрей Седых, в ту пору юный журналист, который потом несколько десятилетий возглавлял в Нью-Йорке «Новое русское слово», самую крупную русскую газету послевоенного Зарубежья. К Куприну он пришел за интервью и был поражен приветливостью, обходительностью своего почтенного собеседника: усадил безвестного репортера в кресло, расспрашивал, предлагал помочь. Ю-ю, развалившись на рукописях, мирно спал в углу стола. За обедом он расхаживал между тарелками, выбирая лакомые кусочки. Куприн жаловался, что кот его презирает — неведомо за что. «Должно быть, за поведение».
Он еще пил — в лавочке у Суханыча дрожащей рукой подносил стопку ко рту и закусывал пирожком.
Потом начинал жаловаться, что, в отличие от Зайцева, от Бунина, не может писать вне России. Считал, что без нее ему просто не жить: «Дошел до того, что не могу спокойно письма написать туда, ком в горле…» И все чаще вырывалось у него, что лесные звери умирать уходят в свою берлогу.
Когда после этих разговоров Куприну напоминали, что в Россию нельзя, там большевики, он непритворно изумлялся: неужто и вправду? Последние годы он явно не отдавал себе отчета в том, что с ним происходит. Случалось, не узнавал тех, с кем был коротко знаком чуть не всю жизнь, — как не узнал Зайцева, пришедшего его проведать незадолго до отъезда. Седых пишет, что сердце сжималось, если где-нибудь на Монпарнасе среди толпы встречалась ему фигура старика в помятой, криво надетой шляпе, неуверенно ступающего по тротуару.
Вопреки рассказам Кисы про взрыв негодования, никто в эмиграции не осудил Куприна за отъезд — по крайней мере, не сделал этого публично. Бунин, с болью вспомнив их последнюю встречу — года за два до отъезда («Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног»), написал, что никаких политических чувств по поводу возвращения не испытывает: «Он не уехал в Россию — его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество». Тэффи упрекала парижское русское общество: «Всеми уважаемый, всеми без исключения любимый, знаменитейший русский писатель не мог больше работать, потому что был очень болен. И он погибал — и все об этом знали. Не он нас бросил. Бросили мы его. Теперь посмотрим друг другу в глаза». Даже Мережковский удержался от нападок, для которых вроде бы был удобный случай. Высказался в том духе, что никого нельзя попрекать, когда голод, бедность становятся непереносимыми.
Ему бы следовало добавить в этот перечень еще одну причину: сказать о преследовавшей Куприна тоске. Справиться с нею Куприну было всего труднее. К эмигрантской жизни он оказался приспособленным меньше всех остальных. И порой просто выл волком. Баронесса Людмила Врангель, приятельница Куприна, которая познакомилась с ним лет за двадцать до революции в Крыму, где он часто бывал в доме ее отца, писателя и врача Елпатьевского, приводит в своем мемуарном очерке такое его парижское письмо: «Жилось ужасно круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать — хуже, чем в совдепии, ибо это несравнимо. Там была моя личность уничтожена, уничтожена она и здесь, но там я признавал уничтожающих, я на них мог глядеть с ненавистью и презрением. Здесь же оно меня давит, пригибает к земле. Там я все-таки стоял крепко двумя ногами на моей земле. Здесь я чужой, из милости, с протянутой ручкой. Тьфу!»
И все-таки, все чаще ощущая себя выползнем, а не тем Куприным, которого носила на руках исчезнувшая Россия, он до 1933 года еще работал в литературе: трудно, с напряжением, с большими перерывами, но писал. В эмиграции созданы «Юнкера», «Однорукий комендант», с десяток рассказов, под которыми не стыдно было подписаться автору «Поединка». Река мелеет, становится скромным ручейком, вот-вот пересохнет совсем. Но вода в ней — все та же незамутненная, неповторимая по вкусу вода, которую жадными глотками пили миллионы читателей старой купринской прозы.
* * *Те, кто читал не только «Возрождение», которое охотно печатало художественные произведения Куприна, а еще и «Общее дело», или «Русскую газету», или «Русское время», где появлялась его публицистика, не могли не заметить, что после революции он очень многое пересмотрел, изменил свои представления глубоко и бесповоротно. Критика почему-то этого не увидела. Считалось, что Куприн — писатель очень поверхностный во всем, что относится к области духовных или общественных вопросов. У него яркий изобразительный дар, который, однако, не подкреплен ни мыслью, ни прозорливостью.
Так, в частности, судил о Куприне Адамович, чье мнение долгое время оставалось почти непререкаемым. Да и Ходасевич воспринимал Куприна почти также. В «Юнкерах» он оценил «единство тона, единство лиризма», которое искупает слабости фабулы, лишенной столкновения характеров и страстей. Но о том, какие побуждения — и убеждения — заставили Куприна взяться за свой роман, он не проронил ни слова.
Выходило, что Куприн — какой-то анахронизм в современной словесности или, как выразился Адамович, «добрый дядюшка от литературы, чудаковатый, многоопытный, благодушный, готовый на все ответить улыбкой, склонный чуть ли не все понять и простить». Эта характеристика содержится в одной из итоговых книг Адамовича «Одиночество и свобода» (1955), однако он и тридцатью годами раньше говорил нечто похожее. И помог закрепиться такому пониманию этого писателя, которое на поверку оказывается в лучшем случае приблизительным.