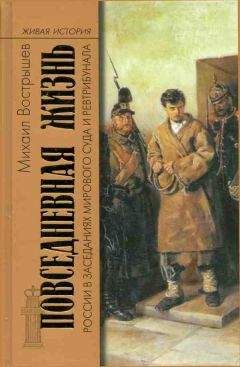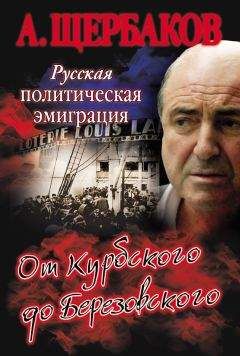Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Оставшись одна с Муром, Цветаева стала думать об отъезде. Изредка такие мысли посещали ее и прежде. В феврале 1936-го она полушутя просила Тескову отыскать в Праге гадалку, которая сказала бы: ехать, не ехать. За то, чтобы ехать, было многое: близкие рвались в Москву, эмиграция не признавала ее и выталкивала, Европа стояла на пороге войны. Но против оказывалось еще больше. Как в СССР сможет существовать она, «не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я назвала его великим и — если даже он велик — это не мое величие и — м. б. важней всего — ненавижу каждую торжествующую, казенную церковь». Но все равно выбора у Цветаевой не было. И после бегства Эфрона той же Тесковой она пишет: «Нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась».
Сколько бы она ни утверждала, что поэт — это эмигрант по самому характеру своего призвания и ремесла, ностальгия и у нее была сильной, острой. В тех стихах, где тоска по родине названа разоблаченной морокой, есть и другая нота, прозвучавшая так сильно, что даже Адамович признал потрясающий эффект его заключительной строфы. Вот этой:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает — особенно рябина…
Однако ностальгия была все-таки совсем не главное, что ее заставило 13 июня 1939 года сесть на пароход, следующий из Гавра в Ленинград. Ариадна Берг, узнав про «ужасные мысли» Цветаевой о возвращении, пробовала ободрить: «Я так глубоко чувствую ненужность Вашей жертвы. Но, конечно, Вы ее чувствуете еще глубже, а также, что она — роковая и, может быть, то, что не принести ее будет еще большей жертвой. Христос с Вами, родная, Ваш путь — русский путь, слепо-созидательный, по которому пойдут, не зная, многие, из которых вырастет Россия, и по которому — если бы могла только! — с Вами вместе и я бы пошла».
Последние парижские месяцы Цветаева провела в скверной гостинице, наспех распродавая пожитки и переписывая те свои произведения, которые было опасно или невозможно взять с собой. Может быть, в этой суете ей минутами вспоминался другой Париж, увиденный семнадцатилетней девочкой в первое знакомство с ним и навеявший стихи из «Волшебного фонаря»:
Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска /…/
В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака,
И дальше смех, и тени ближе,
И боль, как прежде, глубока.
Тогда, в 1909-м, это настроение скорее было данью моде, чем выражало действительно пережитое чувство. Тридцать лет спустя боль из поэтического образа превратилась в живую, каждый день о себе напоминавшую реальность. Тени — Сергей Эфрон, который не то заслуженным пенсионером, не то пленником жил на даче НКВД в Болшеве, Аля, работавшая на Страстном бульваре в журнале «Ревю де Моску» и счастливая разделенной любовью, — звали к себе, требовали ее присутствия: по крайней мере, так это ощущала сама Цветаева. Приняв мучительное для себя решение, не строя никаких иллюзий, она не свернула со своего русского пути.
Дальше были очереди с передачами на Кузнецком, в приемной госбезопасности, и снова нищета, и бездомье. А когда началась война, пароход с эвакуированными, неприветливая Елабуга, и отчаяние, и трава на безвестной могиле, над которой плывут облака, такие же равнодушные над Камой, как над Парижем, где лишь «чей-то взор печально-братский» время от времени смягчал тоску, окрасившую прожитые там годы.
Глава седьмая
Колесо времени
За два года до Цветаевой на родину вернулся Куприн.
Встречать его на Белорусский вокзал приехала целая делегация: репортеры, «представители общественности» — по утвержденному в инстанциях списку, — начальство из Союза писателей. «Правда» 1 июня 1937 года дала заметку, потом в других газетах замелькали статьи, интервью с дежурными фразами об осуществившейся мечте, о великом счастье ступить на землю новой советской Москвы. Писали, что Куприн не может прийти в себя от радости и преисполнен горячего желания дать стране новые книги. Какие-то проинструктированные красноармейцы объявили ему прощение за былую службу Юденичу и дружбу с Деникиным, а Куприн, расчувствовавшись, утирал глаза.
Все это отдавало нестерпимой фальшью. Ходасевич, один из немногих, кто загодя знал о готовящемся отъезде, писал Берберовой, что Куприн впал в детство, к сожалению, это было правдой. На перрон из международного вагона спустился, дрожащей ладонью держась за поручень, старичок с прокуренной седой бородкой, сделал, опираясь на палочку, два-три неуверенных шага, из-под толстых стекол обвел собравшуюся толпу почти ничего не видящими глазами. У него был рак, жить ему оставалось год с небольшим. После возвращения он не написал ни строки: текст, озаглавленный «Москва родная» и пропитанный слезливым умилением, кое-как слепили журналисты «Комсомолки».
Знавшие прежнего Куприна — переполненного жизнелюбием, огромного, могучего, выходившего на ковер с профессиональными борцами и поднимавшегося на летательном аппарате с великим авиатором Уточкиным, — теперь при встрече отводили взгляд: до чего жестокой оказалась к нему судьба! Ничего не осталось — ни энергии, ни страсти, ни таланта. Даже личности.
Словно предчувствуя, какой конец грозит ему самому, Куприн тринадцатью годами раньше задумался о том, что заставило Бориса Савинкова, знаменитого террориста и непримиримого врага новой власти, который попался в сети, расставленные ГПУ, чернить себя на московском судебном процессе, путаться в самобичеваниях, произносить речи, согласованные с лубянским следователем. Об этом и сейчас гадают, предлагая самые разные объяснения, но купринское, должно быть, точнее остальных. Он написал, что перед трибуналом во главе с безотказным сталинским палачом Ульрихом был уже не Савинков, смолоду привыкший ходить по ниточке между жизнью и смертью, а «выползень». Так в народе называют наружный слой ороговевшей шкуры змеи, который она сбрасывает во время линьки: выползает из него, как из чулка. Валяющуюся на земле кожу издалека можно принять за гадюку или кобру, а это всего лишь мертвая оболочка.
Савинкова, очевидно, пытали, применив к нему как к врагу «методы физического воздействия». Куприна встретили с помпой, попробовали его использовать для пропаганды советских успехов, сделали вид, будто не помнят, что новое название своей страны он в газетных статьях писал только так: «Сррр…» Но, убедившись, что он ни на что не годен, отправили тихо умереть в любимой его Гатчине.
Для этого он и ехал в «Сррр…» — не каяться, не виниться и мириться, а просто умереть — на опоганенной и все-таки родной земле.
* * *За рубежом он, как почти все русские писатели, которые начинали еще в конце XIX века и были современниками Толстого, чувствовал себя совершенно чужим. И часто об этом говорил напрямик — в рассказах, которые печатали «Возрождение» и «Иллюстрированная Россия», которую Куприн одно время редактировал. В публицистике.
Такое ощущение преследовало его с первых дней эмиграции. Вместе с откатывающейся армией Юденича Куприн, редактор фронтовой газеты «Приневский край», знавший, что ему пощады от большевиков не будет, попал в Ревель, оттуда в Гельсингфорс, а с июля 1920-го жил в Париже, часто печатаясь на страницах «Общего дела». Его статьи, резкие, остроумные, злые, описывающие больную, истерзанную Россию, которая превратилась в «вонючую ночлежку, где играют на человеческую жизнь — мечеными картами — убийцы, воры и сутенеры», кажутся написанными не тем пером, из-под которого вышли «Олеся» и «Гранатовый браслет».
Куприн, назвавший революцию «омерзительной кровавой кашей, мраком, насилием, стыдом», утверждал, что этот кошмар ненадолго. Превращенная в четверодневного Лазаря — те же «мертвые, опустошенные глаза», то же «гнойное разложение», — великая страна воскреснет, как житель Вифании, которому Христос повелел восстать из гроба. И научится по-настоящему ценить все то, что «мы не любили, не берегли, не уважали»: неубывающие природные богатства, великое историческое прошлое, на которое теперь плюют, тронутую декадентским тленом, но еще мощную и по преимуществу здоровую культуру.
Однако вряд ли он сам безоговорочно верил этим своим предсказаниям. В письмах его настроение совсем другое. Например, вот в этом, написанном всего через год после переселения на берега Сены: «Видели ли вы когда-нибудь, как лошадь подымают на пароход, на конце парового крана? Лишенная земли, она висит и плывет в воздухе, бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой… Это — я».
Похожий образ возникает в свидетельствах мемуаристов. «В тридцатых годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями, поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина», — пишет в своей русской автобиографии Набоков. Узнал ли он в спившемся, беспомощном человеке того большого писателя, которым несколько лет назад восхищался, отзываясь на купринский сборник «Елань», где Набокова поразил талант «предельной проникновенности», очаровала необыкновенная «точность и чистота выражений»?