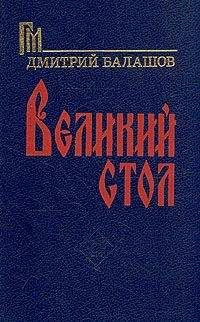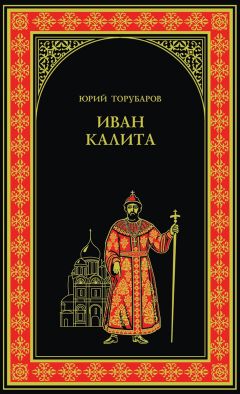Дмитрий Балашов - Бремя власти
Калика, не разделявший любви своих «детей» – новгородских бояр – к пышности, ехал в том же дорожном платье, и на него до митрополичья двора почти не обращали внимания.
Феогност принял послов не томя. Владыку Василия – как доброго гостя. С той еще, с волынской, поры по нраву пришел ему легкий и деловитый новгородец. Ныне прибавил важности – глава! А в чем-то все тот же любопытствующий странник на здешней бренной земле. (Много лет спустя узнал Феогност о возникшей меж Василием Каликой и тверским владыкою Федором пре о рае зримом и мысленном. Федор Добрый доказывал, что рай неможно узреть бренными очами, токмо духовными и в духе, ибо рай не от мира сего, а Василий Калика утверждал, что можно и смертными очами узрети врата райские, о чем якобы повестили ему северные новгородские мореходцы. Феогност умом был на стороне епископа Федора, но послание Василия о рае – чудесное, яркое, как сказка, полное удивления пред безмерностью мира и сугубой, детской почти, веры в зримое чудо, живо напомнившее ему прежние рассказы Калики, – очаровало его, и он велел переписать послание, сохранив его в ризнице Успенского собора.) Новогородцы поклонились дарами: поднесли серебряный сион, посох с изумрудом в навершии, иконы – «Николу» с житием и Спасов лик – доброго новгородского письма, связки соболей, куниц и горностаев, шкатулку резную из зуба рыбьего, мед, миро и фряжское красное вино – и Феогност окончательно растаял, теперь уже почтя заключение мира своею прямою обязанностью. («Умерять гнев и сводить в любовь, яко отец чад своих…»). Он сам поехал в Москву, к Ивану, упреждая послов, и имел долгую молвь с великим князем («Достоит духовному пастырю Руси умерять гнев сильных и сводить в любовь паству свою…»).
Иван выслушал Феогноста с пристойным смирением, но угрюмо. Сам знал, что надо сотворить мир. До него дошли уже вести, что сын Александра Тверского принят в Орде ханом Узбеком. Да и Гедимин не оказывал того расположенья, коее надеялся Иван получить, женив сына на литовской княжне.
Новгородцы давали теперь тысячу серебра. Этого было мало, но… Дальнейшая неуступчивость грозила уже такими бедами, что следовало согласиться, и как можно скорей. Надо было переступить через себя! И Феогност молил, да и сам знал, что надобно, токмо упрямство одолело паче меры. Не свое, братнино, тупое, глупое упрямство, и держало, как коршун в когтях.
Новгородское посольство он принял. Вновь дивясь про себя лучащейся от Василия Калики деловитой радости, разглядывал он архиепископа Великого Города. (На стены каменные хватает небось серебра! Нынче и внешнюю стену у Славны сложили, не от него ли, великого князя, город боронят?)
– Достоит мне, великому князю владимирскому, имати власть во всей русской земле! И Новгороду Великому, мняща мя яко господина своего, надлежит вкупе с иными нести тяготы ордынские и прочие.
– Вкупе и согласно! – живо отозвался Калика. – Пото и просим о мире, и бор даем, и уряженное по прежним грамотам, како от нас великому князю надлежит! Соучастны есьмы в судьбе нашей, и в любви взаимной надлежит быти нам, не утесняя ничим же друг друга! Молим, княже, отложи гнев и сниди в любовь!
Да, они стояли на своем, давая Ивану после стольких долгих месяцев размирья и которы ратной ровно половину того, что хотел и мнил он получить. Да еще, сверх того, учили, как надлежит ему мыслить о власти княжеской!
Связь соучастия, яко у равных государей, – вот что предлагал ему Новгород Великий. Он же понимал, что неможно, нельзя позволить того, что власть должна быть связью подчинения единому главе, единой силе, иначе все вновь и опять пойдет вразброд, как это уже не раз приключалось на Руси! Но у них была своя правда, и своя вера, и были силы, дабы веру свою защитить. И Иван ничего не мог совершить противу, ни сказать, ни содеять. Новгород не Ростов, не Дмитров! И надо, надо, надо заключать мир!
Вечером к нему в изложню пришел Симеон:
– Не спишь, батюшка?
– Заходи, сынок! – дозволил Иван и позвал, помедлив: – Садись сюда, на постелю!
От целодневной при с новогородцами раскалывалась голова. Может, сын отвлечет чем? Порадует ли, опечалит? Но Симеон, присев на ложе, новый какой-то, суровый, помедлил, вздохнул и высказал, как твердо решенное:
– Батюшка! Достоит тебе заключити мир!
(«И ты тоже!») Иван вдруг почуял нежданные слезы в глазах. В покое было темно, скудный свет в отодвинутые ради ночной прохлады оконца уже померк, уже побледнело алое на вечерней заре небо, и ярче стал невидный совсем по дневной поре лампадный огонек… Сына не прогонишь капризно, ему, Симеону, наследнику, надлежит объяснить все.
– Завтра подпишу, сын! Не хотел, а… передолю, заставлю себя… Надобен мир. Княжич Федор в Орде!
– Сын Александра Михалыча?
Иван кивнул. Привстав, поправил взголовье. Симеон, молча угадывая желанья отца, подал свернутый овчинный ордынский тулуп. Иван, устроив ложе, чтобы мочно было полусидеть, откинулся, поерзал затылком, уминая курчавый мех.
Сумерки сгущались. Лицо Симеона смутно белело в темноте.
– Батя! А почто нам так надобен Новгород? Не то я молвил! – тотчас поправился Симеон. – Почто надобно всех, несхожих друг с другом, как тверичи или новогородцы, склонять под едину власть? Нет ли в этом гордыни? Быть может, прав архипастырь Василий? Не нарушаем мы сим главную заповедь Христову: «Возлюби ближнего своего…»?
Если Иван еще видел сына, то Симеон в тени от высокой спинки княжеского ложа и вовсе не видел отца. Голос Ивана, чуть хриплый, усталый, доносился из темноты и словно бы жил сам по себе.
– «…яко же самого себя!» – строго досказал этот голос и, помедлив, присовокупил: – Себя не токмо любишь, но и неволишь, и жестоко неволишь порой! К труду, к деянию. Из тоя же любви! Зри в черных людях: сын спит, а отец уже на ногах, ладит упряжь, лапоть ли починяет, какой обор оторвался тамо, али расплелось непутем… А хозяйка в дому? Еще и свету нет, а уже топит печь, кормит и доит скотину… Дак что ж ты сам себя, возлюбя, мнишь содержать в трудах и в законе, а ближнего своего – в неге, да в холе, да в беспутстве всяком? «Яко же самого себя», сказано у Христа!
– Это я знаю, отец, о том не раз баяли, а только…
– Власть надобна, дабы съединить, совокупить воедино всю землю русскую! Митрополит знаменуется «Всея Руси», и князь должен быть такожде «Всея Руси»! – возвысил голос Иван, перебивая сына. – Зри! Возмог ли Михайло добром да советом достичь того? И сам сильно деял по нужде! И у него в подручниках ходили князья! А токмо пришел час – и сколь жалобщиков набежало губить Михайлу?
– Мы же, отец…
– Да, мы! И прочие все такожде! И Новгород! И суздальский князь! И Ростов! Много я натворил, сын, такого, о чем лучше не сказывать… И ныне творю. С Ярославлем вот. Посылывал даже и к купцам ярославским, и бояр подкупал зятевых… А токмо – надобно сие! Для всей Руси Великой! Для смердов! Бояр! Гостей! Для всех, для всего люда русского!
Иван умолк, чуял, что все чело в испарине, – не нать было кричать так! Симеон выслушал, не перебивая, и только медленно покачал головой.
– Скажи, батя, а где, в чем залог нашей с тобою правды? Ведь такожде и всякий-любой речет: «Творю зло для добра!». «Горек корень болезни лечит» и всякая подобная.
– В чем? В строгих понятиях, в законе Христовом! Надобно быти примером для подданных и в семье: не прелюбы творить, а блюсти чистоту и честь дома… Я матери твоей ни разу пальцем не тронул! Был строг, а и гласа не возвысил никогда! В трудах, в богатств нестяжании. Должно всегда ощущать власть яко труд, долг, обязанность, данную Господом! – Иван передохнул, вновь отер потное лицо: – В сем дели церковь должна помочь государю. В одном удержать, в ином наставить. И сам пред собою, егда на молитве стоиши, являй Господу в умной молитве вся тайная и вся скверная души своея, да очистиши ум от лукавства. И духовник такожде на то и даден тебе, и бдение нощное, и пост. Алексий, крестник мой, даже и некое сказал, важнейшее прочего: надобен святой! Чуешь? Святой! Дабы преклонились пред ним. И еще одно рек: что сей святой явит себя среди тех, коих я утеснил ныне… Сын, я, возможно, гублю душу, и это самая страшная жертва за други своя! – выдохнул Иван, приподымаясь на локтях, в белое, размытое, почти чужое лицо сына. – Но не похотьствую, не красуюсь в роскоши! Ни сладкоядением, ни сладкопитием, ни иным грехом – блудодейным, иным ли – не согрешил есмь!
Зри, яко мы живем! Те же щи и та же черная каша, то же молоко, масло и сыр, что у наших крестьян ежеден на столе! Та же говядина, баранина ли, те же рыбы и квас в пост! Не много баловал я вас сорочинским пшеном да изюмом! Обиходной посуды иной, кроме глиняных мис да деревянных тарелей и ложек, нету в дому! Дочери, сестры твои, все ткали и пряли, яко и прочие жонки посадские! Носили в будни и дома полотно и холст да овчину. Иное – лунское сукно да шелка, бархаты, камки черевчаты и прочая многоценная – на торжества, в церковь ли, на праздники надевывали, а отнюдь не ежедён! И роскошество пиров по приключаю творим: для приема ли гостей иноземных или иного чего. Серебряных мис да ордынских муравленых чашек видел ты, окроме пиров да гостей званых, когда на столе? С детьми – та же мамка, из деревни взятая, а и в любом справном крестьянскому дому няньку завсегда со стороны наймуют к детям малым! Того, что мы тратим на себя, на жизнь, на будничный обиход свой, не много боле уходит, чем в добром дому крестьянском! А иное все на бояр, на слуг, на дружину – дак на людей же! И люди те кажен свое творит: ткут, шьют, чеботарят, водят птицу и скот или на ратях труд свой, пот и кровь, прилагают, тоже даром хлеб не едят! На пирах сотни народу сыты от княжого стола! Во твою свадьбу, воспомни, всю Москву кормили! И черный народ не бедствует у нас! Как разбоеве утихли, повыбили шишей да татей мои молодцы, дак и клетей не запирают нынче! По доброй осени в кажной деревне братчины, странника, погорельца накормят и напоят в любой избе! Мы не грабим свой народ! – последнее Иван выкрикнул в голос, и задышался, и едва не пропустил тихого, шепотом сказанного сыном слова упрека: