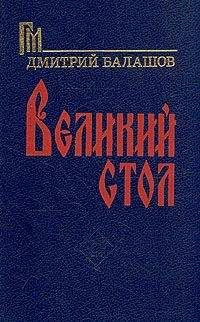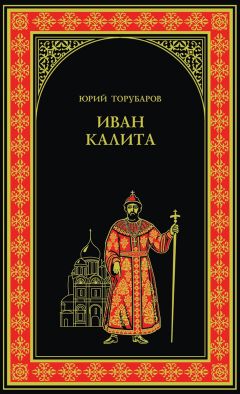Дмитрий Балашов - Бремя власти
Италийского немца и после слушала. Много знал, о многом услышала от него в первый након. Чем-то и помогал коротать дни, ожидаючи Федю из Орды… И все одно был не свой. И не православный даже, хоть и женился во Твери и в русскую церкву ходил. Все было не то, и велись после бесед с ним мысли нехорошие: а ну как обадили Александра католики? А ну как и этот, как его зовут сенные девки, «наталинский немец», подослан от Гедимина или от папы римского? Надо остеречь Сашка! Не привлекал бы излиха чужих-то к себе, не печалил своих бояр! А может, ему тамо виднее? Может, меж Литвою и Орденом и такие надобны и без них не обойтись? Ах, Сашко! Скорее бы ты воротил во Тверь! Матери твоей уже невмоготу стало! Вернись, сын! Нет Узбека, нет запрета, нет московского князя, нет ни Гедимина, ни Литвы, есть ты, сын, и твоя мать, что ждет тебя уже из последних сил!
Федя с боярами воротился позднею осенью. Привез ханский зов Александру: «Да прибудет!» А она уже и не ждала, не могла, что-то надломилось в ней. Федя ли, Сашок – они оба объединились в одно лицо, в один лик надежды. И так сладко, не сдерживая бегучих слез, было смотреть на него! На это юное, обожженное до красноты степными ветрами лицо, слышать возмужавший, с низкими переливами голос, держать его за руки… Сподобил! Федя! Феденька! Внучонок, сынок!
Она выстояла службу в соборе, выдержала торжественную встречу и пир. Вечером слегла. И к утру уже сама поняла, что серьезно. Быть может, и не встанет! Сенные боярыни и девки суетились с питьем и лекарствами, растирали, согревали стынущие ноги. Она с удивлением глядела на хлопоты, на соболиное одеяло, на шелковые простыни… К чему это все? Потребовала переодеть себя в белое полотно, вместо душной перины положить на солому. Исповедалась и причастилась. Решила, ежели станет хуже, принять постриг. Вызвала сыновей, Василия с Константином. Велела прочесть завещание. Василия, поцеловав, скоро отослала от себя. Как получил Кашин, так пущай и сидит на нем! Константина удержала. Долго-долго глядела в глаза, сказала наконец твердо:
– Может, умру. Останешь один. Помни, как убили отца! – Помолчала. Константин бледнел, белел, руки начинали трястись (и тут робеет!). – Великого, через меру сил твоих, не прошу, – сказала Анна, передохнув и не глядя на сына, – тебе жить. Но не смей… Ни ты, ни Василий… Костью моей не двиньте, брата старейшего не обидьте ни в чем! Ни в роду его, ни в сынах, ни во внуках, ни в правнуках! Иначе… Мне стати с тобою на суде пред Господом!
– Матушка! – только и вымолвил, склоняясь, и затрясся, спрятав в ладони лицо (не воин, не муж… Ну, пущай живет, как может, лишь бы этой подлости не свершил!).
– Помни, Костянтин! Все прочее забудь, а это помни! Тверь – Сашку!
– Буду помнить, матушка! – (Едва вымолвил, мальчик ты, мальчик! Зрел смерть отцову, а к смерти не привык!)
– Ну, сын, теперь поцелуй меня и ступай! Может, и не умру… Все одно помни!
Он судорожно кивнул несколько раз, слепо, едва не ощупью, вышел из покоя.
Она долго-долго лежала, смежив очи. Уже и священник, подойдя к ложу, с беспокойством заглядывал в лик великой княгини: не отходит ли света сего? Но Анна открыла очи, тихо и строго велела:
– Позови Федора!
Внука попросила взять ее за руки. Шепотом (громко уже не могла) попросила повторить опять, что и как створилось в Орде, у Узбека. Выслушала, хотя и с трудом уже заставляла себя внимать (все отходило, уплывало, становилось ненужным, неважным).
– Так… стало, Сашок поедет теперь? – спросила с придыхом, медленно выдавливая слова. – Не уморит… Узбек?
У Феди – видела, словно в тумане, – как остарело лицо. Он не сразу ответил: видно хотел, но не мог солгать.
– Наклонись! – велела она.
– Не знаю, мамо! Сулили, не тронут… а Бог весть!
Он даже сам не понял, что назвал бабу матерью, а она учуяла, чуть-чуть улыбнулась нечаянной ласке его, слегка раздвинув сухие морщины впалых щек.
– Ну, значит, не умру. Нельзя мне! Дожду… Сашка из Орды… – Что-то она еще хотела сказать, важнейшее… Что? Что? Неужели не вспомнит? Она наморщила от усилья лоб: что? Что? Наклонясь, внук ловил ее шелестящий прерывистый шепот:
– Пущай… просит… князем великим, тверским… Не будет в кабале у Ивана… Сам с Ордой ся управит… – сказала и, сквозь муть, сквозь туман смерти, вгляделась: понял ли? Федор затряс головой: понял, понял!
– Меж бояр наших о том тоже говорка была!
Анна вздохнула глубоко, освобожденно. Теперь, кажись, почти уже ничто не держало ее на земле… Нет, держало! Сашок… Золотая Орда…
Едва-едва слышные, прошелестели слова:
– Возьми… руки…
Федор взял ее уже холодные, почти неживые ладони в свои, горячие, сильные. Анна закрыла глаза. И тотчас хороводом, кружась, подступили к изголовью видения. Двое подошли к ложу. По темно-синим очам признала покойного Дмитрия, по светлому незаботному зраку – Александра. «И ты здесь?» – неслышно спросила Анна, удивясь ему, живому, больше, чем тому, мертвому. «А где же отец?» – спросила, не разжимая губ, и тотчас он, клубясь, словно бы из тумана, подступил и стал в изножии. Его бугристые плечи, его широко расставленные глаза… «Я старая, некрасовитая нынче!» – горько пожалилась она. «Ты всегда красивая для меня! Краше солнца, краше красного месяца!» И сладко, так сладко стало ей от этих его слов и, верно, почуяла, что опять молодая, с высокою грудью, и волнуется, словно невеста пред женихом… Се жених грядет во полуночи!
Чьи-то руки, едва ощутимые, держат ее ладони, не дают уходить. И это единственная тонкая ниточка внешней жизни, которая еще связывает ее с этой землей. Глаза Анны прикрыты. И пение – не пение, а гласы ангельские реют вдалеке. И трое предстоящих, муж и два сына, светлеют, тают, будто в тумане, у ее молодого ложа, весеннего ложа, ложа надежды, мира и любви!
Федор сидит и держит едва теплые, почти неживые ладони. Слезы капают на белый монашеский покров. Горячие слезы юности, слезы мужчины и воина у постели женщины-матери рода своего.
Да будет мир с тобой, баба Анна! Как бы хорошо, как бы нужно было тебе умереть теперь! Да не узнала бы ты и там, в мире горнем, грядущей судьбы сыновей и внуков своих! Так было бы лучше, много лучше для тебя! Ибо суров сей временный мир нашей вседневной скорби, мир, в коем живем и страдаем и ненавидим друг друга мы, живые, мнящие ся бессмертными, и уже обреченные праху и исчезновению в пучине времен.
Дверь покоя приотворяется, заботные лица иерея и двух боярынь маячат в дверях.
– Спит, – говорит Федор. – Не тревожьте ее.
Глава 39
Юный тверской княжич Федор Александрович все еще был в Орде, когда из Новгорода прибыло к великому князю новое посольство архиепископа Василия Калики.
Пышно доцветало лето. Тяжелые высокие облака громоздились и таяли сине-свинцовыми громадами в тусклом, потемневшем, как и листва дерев, небе. Ветер, качая хлеба, обдавал душною сытной жарой. Тяжко брели стада, облепленные роями крылатой нечисти. Тяжко клонили долу усатые головы колосьев. На пригорках, на солнцепеке, уже зачинали жать.
Послы ехали во Владимир, к митрополиту Феогносту, просить заступы и посредничества перед Иваном, и перед ними развертывалось желто-полосатое Ополье в море хлебов, среди которых, словно утонувши в густых ржах, прятались по логам деревни с невысокими, словно тоже втиснутыми в землю избами, крытыми потемневшею от зимних непогод соломой. Люди были в поле, и деревни стояли почти вымершие. Редко брехнет разморенный жарою пес, да белоголовый льняной мальчонка в посконной рубахе, любопытно и долго-долго уставясь круглыми глазами, провожает по-за поскотиною чудной обоз, дивясь на боярское платье и на занятных мужиков-возчиков в сапогах и кожаных постолах вместо лаптей. Или древняя, уже совсем вышедшая из сил, старуха, что бредет обочь дороги, остановит, глядючи из-под ладони, и, догадав по платью, что перед нею духовное лицо, торопливо семеня, поспешает принять благословение у проезжающего в распахнутом возке небольшого ростом и ясноглазого священника, не мысля даже и мыслию, что улыбчивый, проминовавший ее и легко осенивший крестным знамением поп – всесильный архиепископ новогородский, а верхоконные бородачи за ним – великие бояре далекого северного вечевого города…
Пыльный и шумный Владимир встретил торжественными соборами, торжественным звоном и суетой улиц. Бояре приоделись. Варфоломей Юрьевич вздел сверх шелкового рудо-желтого зипуна суконный алый, отделанный парчою, охабень, соболиную шапку и поминутно отирал тафтяным платом обильные струи пота, текущие по лбу и щекам. Зато и народ аж под копыта лез – позреть великого боярина новогородского!
Калика, не разделявший любви своих «детей» – новгородских бояр – к пышности, ехал в том же дорожном платье, и на него до митрополичья двора почти не обращали внимания.
Феогност принял послов не томя. Владыку Василия – как доброго гостя. С той еще, с волынской, поры по нраву пришел ему легкий и деловитый новгородец. Ныне прибавил важности – глава! А в чем-то все тот же любопытствующий странник на здешней бренной земле. (Много лет спустя узнал Феогност о возникшей меж Василием Каликой и тверским владыкою Федором пре о рае зримом и мысленном. Федор Добрый доказывал, что рай неможно узреть бренными очами, токмо духовными и в духе, ибо рай не от мира сего, а Василий Калика утверждал, что можно и смертными очами узрети врата райские, о чем якобы повестили ему северные новгородские мореходцы. Феогност умом был на стороне епископа Федора, но послание Василия о рае – чудесное, яркое, как сказка, полное удивления пред безмерностью мира и сугубой, детской почти, веры в зримое чудо, живо напомнившее ему прежние рассказы Калики, – очаровало его, и он велел переписать послание, сохранив его в ризнице Успенского собора.) Новогородцы поклонились дарами: поднесли серебряный сион, посох с изумрудом в навершии, иконы – «Николу» с житием и Спасов лик – доброго новгородского письма, связки соболей, куниц и горностаев, шкатулку резную из зуба рыбьего, мед, миро и фряжское красное вино – и Феогност окончательно растаял, теперь уже почтя заключение мира своею прямою обязанностью. («Умерять гнев и сводить в любовь, яко отец чад своих…»). Он сам поехал в Москву, к Ивану, упреждая послов, и имел долгую молвь с великим князем («Достоит духовному пастырю Руси умерять гнев сильных и сводить в любовь паству свою…»).