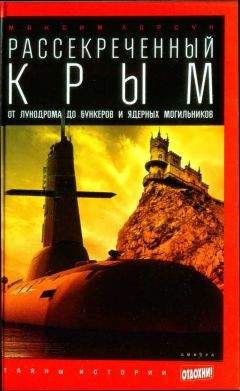А. Иванов - Многоликое средневековье
Эта сага была записана в ту пору, когда Рим почти достиг своих отдаленнейших границ, незадолго до переворота, заменившего Римскую республику империей. В то время, естественно, у многих возникал вопрос: что сулит Риму его грядущая судьба, какой период наступает за славным периодом громких побед и блистательных завоевании? Если бы возможно было хоть немного приоткрыть ту завесу, которая скрывает будущность его! Вопрос оставался без ответа или, лучше сказать, вызьшал следующий ответ: будущее неизвестно; был случай узнать его, но царь Тарквиний пренебрег им. И, конечно, огромному большинству римского населения будущее представлялось далеко не в том виде, в каком суждено было проявиться ему.
Но встречались отдельные лица и даже несколько ранее указанной нами поры, лица, которые, задумываясь над судьбой своего отечества, испытывали далеко не радостные чувства и как бы пророчески провидели заключительные явления трагической истории Рима. К таким личностям принадлежал герой третьей Пунической войны Сципион Младший. «Говорят,- рассказывает историк Полибий,- что при виде до основания разрушенного Карфагена Сципион пролил несколько слез, оплакивая участь своих врагов. Долгое время он оставался в задумчивости. Поразмыслив о том, что судьба городов, народов и всех государств так же переменчива, как судьба отдельных людей, что такова была судьба Илиона, города когда-то процветавшего, что таковы были судьбы ассириян, мидян, персов, бывших некогда столь могущественными, такова, наконец, была судьба македонян, память о славе которых была еще так жива в то время, он продекламировал, или под влиянием невольного волнения, или под влиянием раздумья, следующие стихи из Гомера:
Будет некогда день, и погибнет высокая Троя, Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
Когда Полибий спросил у него, какой смысл придает он этим словам, Сципион отвечал ему, что под Троей он подразумевает свое отечество, что он боится за свое отечество, которому, в силу переменчивости судьбы человеческой, может предстоять подобный же конец».
И действительно, нечто подобное совершилось с великим Римским государством. Сама погибель его «таилась» там, откуда Рим не ожидал ее, - в зарейнских и задунайских странах, населенных варварскими народами германского племени. Римляне то враждовали, то дружили с ними, римский воин вносил туда огонь и разрушение, римский купец заносил туда свои товары, римское правительство открывало свои границы для целых народностей и селило их на своей земле. После того наступила пора почти непрерывной, трагической борьбы: германцы прорывали римские границы, римляне сдерживали их натиск, как крепкие плотины сдерживают напор расходившихся океанских волн. Но вот океан прорвал плотины: варварские народности, одна за другой, разлились по обширной поверхности Западной Римской империи; им сопутствовали разрушения и пожары. Свершилось то, что смутно представлял себе Сципион, чего не было сказано в сохранившихся Сивиллиных книгах: Западная Римская империя перестала существовать. На ее землях поселились варварские народности, подчинившие себе и римлян, и те народы, которые когда-то покорились римлянам, а теперь были совершенно романизованы ими. Так появился новый этнографический слой на землях, принадлежавших Риму. Победители-варвары, поселившись в разных частях империи, образовали на развалинах Рима свои собственные, варварские королевства.
На развалинах Рима возникла новая жизнь, но не сразу установились формы ее, и этому установлению предшествовала пора внешних войн, внутренних междоусобиц, тяжелая переходная пора.
Прежде чем говорить о зачатках новой формы политического и общественного быта, с X века установившегося во всех государствах, основанных германскими народами, мы должны ответить на два естественно возникающих вопроса: что представляли собой варвары? в каком состоянии застали они разграбленную ими империю?
Варвары были в то время частью язычниками, частью христианами арианского толка. Они были мужественны и выносливы, высоко ценили чистоту нравов и относились с величайшим уважением к женщине, отличались своим гостеприимством и необыкновенной внимательностью к своим сотрапезникам и гостям, но в то же время были невежественны и суеверны, войну и грабеж предпочитали мирным занятиям и, чувствуя природную склонность к бездействию, которая поддерживалась и самим образом их жизни, охотно возлагали все тяжелые работы на женщин, старцев, на слабых членов семьи и рабов своих. По свидетельству Тацита, пить целый день и целую ночь у германцев не считалось постыдным, а частые пиршества были причинами не только раздоров, но и убийств. Любимейшим времяпрепровождением были: или азартная игра в кости, причем проигрывалось не только состояние, но и личная свобода, или охота, доставлявшая материал для пищи и одежды, или воинственный танец с перепрыгиванием через мечи, воткнутые рукоятками в землю. Вот главнейшие положительные и отрицательные черты в народном характере германцев. Главным средством к жизни было у них скотоводство, хотя они занимались и земледелием, причем разводились исключительно хлебные растения, землей не дорожили, не заботились о ее удобрении, а истощив, покидали ее и обращались к обработке новых участков. Сами участки земли не составляли частной собственности отдельных лиц, а отводились в общее владение известной семьи или рода. Они и жили такими отдельными родами. Родственные связи были необыкновенно крепки; даже военные отряды составлялись во время войны из родичей. «Вблизи их все дорогое,- говорит Тацит,- и со своего места они могут слышать и вопли своих жен, и плач своих детей». Воинственная по преимуществу жизнь германцев выдвигала из их среды выдающихся вождей, собиравших вокруг себя более или менее многочисленную дружину, которая была тесно связана с личностью своего вождя, «во время мира была его украшением, а во время войны - опорой». Некоторые из таких вождей становились наследственными предводителями, герцогами или королями. Главную часть каждого германского народа составляло сословие свободных людей, из которого выделялась лишь небольшая группа людей знатных. На землях свободных людей жили рабы и крепостные. Вот каковы были германцы. То было племя воинственное, не испорченное благами житейскими, при своей грубости и даже дикости способное проявлять высокие нравственные чувства и только что переходившее от быта патриархального к быту политическому. Перед ними, детьми природы, жизнь лежала впереди.
Рим отжил свое время. Императорская власть была слаба; сперва она еще вела оборонительную войну с варварами, но потом, как бы сознавая свое бессилие, предоставила событиям совершаться своим чередом, отдалась течению, и могучее течение нанесло ее на подводный камень. Защитниками Рима были те же германцы, состоявшие у него на службе. Правителями Рима скоро сделались предводители германских отрядов. Связь между Римом и провинциями порвалась. Под страшным натиском варваров и тень единства исчезла: всякий думал только о себе и поступал согласно с собственными выгодами. Риму не было больше дела до провинций: он или отдавал их варварам, думая этим удержать их за собой на основании особых договоров, или просто покидал их на произвол судьбы, собирая все свои силы для собственной защиты. Провинциям, угнетавшимся поборами и повинностями, не было дела до Рима. Результатом таких отношений и могло быть лишь расчленение Западной Римской империи; еще задолго до катастрофы, ниспровергшей империю, провинции ее стремились к отделению от Рима, провозглашая своих собственных императоров; теперь же эта старая рознь должна была обостриться. Рознь не ограничивалась, впрочем, только указанным кругом: она проникала в само общество одряхлевшего Рима. На эту рознь, на это развитие эгоизма в среде римского населения указывают следующие слова пресвитера Саль-виана, жившего и писавшего в период разрушения Западной Римской империи. «Почти все варвары,- говорит он, - принадлежащие только к одному племени и управляемые одним королем, взаимно любят друг друга, а почти все римляне друг друга преследуют. Какой гражданин у нас не ненавидит другого гражданина? Кто вполне расположен к своему соседу? Все далеки друг от друга, если не по месту своего жительства, то по своим чувствам; хотя соединяются одним и тем же жилищем, но в духовном отношении далеки друг от друга».* Тот же Сальвиан отмечает экономический гнет, лежавший на римском населении и совершенно не соответствовавший его силам. «Еще тяжелее то, - продолжает он, - что большинство обирается немногими, и общественные подати стали частной добычей; так поступают не только высшие, но и низшие, не только судьи, но и повинующиеся им».* «Бедные ограбляются, стонут вдовы, сироты угнетаются до такой степени, что многие из них, принадлежащие к известным фамилиям и хорошо образованные, бегут к неприятелям, чтобы не умереть от огорчения, вызываемого открытым преследованием; они ищут у варваров римского человеколюбия, так как не в состоянии переносить варварскую бесчеловечность римлян… Они предпочитают вести свободную жизнь под видом плена, чем быть пленниками под внешностью свободы.»** Далее Сальвиан обращает внимание на печальное положение низшего населения Галлии, которое или бежит к врагам, или поднимает восстания, или, желая найти защиту у сильного и богатого человека, отказывается в его пользу от своей собственности и свободы, чтобы таким образом уйти от разорительных поборов. «П мы еще удивляемся, - говорит он, - если варвары берут нас в плен, тогда как сами делаем пленниками своих братьев? Нечего, следовательно, удивляться опустошениям и истреблению граждан».*** Другой римский писатель, Амми-ан Марцеллин, живший перед самым началом роковых варварских вторжений, рисует в своей «Истории» замечательно яркими красками типы представителей высшего сословия современной ему эпохи. «Хвастовство, с которым они выставляют напоказ списки своих поместий в провинциях Восточной и Западной империй, причем иногда приписываются и лишние, возбуждает негодование, особенно когда припомнишь мужество и бедность наших предков, которые не отличались от простого воина ни пищей, ни одеждой; но современная нам знать измеряет свое достоинство и важность высотой экипажа и тяжеловесным великолепием своих одежд. Длинные одежды из пурпура и шелка развеваются по ветру и дают возможность рассмотреть под ними богатую тунику, украшенную вышивками, изображающими различных животных… Сопровождаемые свитой в пять-десять человек прислуги, их закрытые колесницы потрясают мостовую и дома, когда катятся по улице с необыкновенной быстротой… При выходе из ванны эти великолепные личности надевают свои перстни, драгоценные каменья и знаки своего отличия; потом облекаются в дорогие хитоны, полотна которых хватило бы на 12 человек; затем следуют верхние одежды, которые льстят их самолюбию, и при всем этом они заботятся принять на себя величественную осанку…»* Глядя на иного, продолжает Марцеллин, ты мог бы принять его за возвращающегося после взятия Сиракуз Марка Марцелла. «Впрочем, иногда и эти герои предпринимают также смелые походы: они пускаются в свои итальянские поместья и там предаются охоте, труды и усталость от которой выпадают на долю рабов. Если случайно, особенно в жаркий полдень, они имеют храбрость переплывать на раззолоченных барках озеро Лукрин, отправляясь в свои великолепные дачи, которые окаймляют приморский берег у Путеол и Гаэты, они сравнивают эти трудные предприятия с походами Цезаря или Александра. Если муха проникнет за шелковые занавески палубы, если через складки проникнет луч солнца, они оплакивают бедствие своего положения и со свойственной им аффектацией вздыхают, что не родились в странах Киммерийских… Когда они едут в деревню, за господином следует весь его дом; как в походе предводитель делает распоряжения для кавалерии и пехоты, для авангарда и арьергарда, так старейшие слуги с жезлом в руке, символом своей власти, расставляют многочисленную свиту служителей и рабов…» Вот каким застали варвары сделавшийся их добычей Рим! Если перед варварами лежала впереди жизнь, Рим находился у края своей могилы. Не сила варварского мира была причиной падения Рима, но старческая дряхлость последнего.