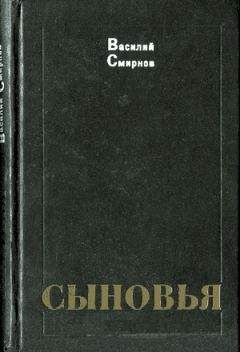Василий Смирнов - Весной Семнадцатого
- Тятька едет! Тятька едет!.. На поправку, на попра-авочку! - запел и пуще засвистел Яшка для себя и еще больше для появившихся на пороге друзей, все им объясняя, делясь великой радостью, орудуя с громом топором, высекая им молнии из ржавых гвоздей.
Шурка с Катькой умерли возле двери, сраженные наповал новостью, молниями и громом, всем тем, что они увидели и услышали в Яшкиной комнате, и тотчас воскресли, разинули, как положено, рты, не спуская вытаращенных, обрадованно-изумленных глаз с Петуха.
- Раненый... Письмо прислал из Питера... Выписывается из госпиталя! пропел добавочно оглушительно Яшка, бешено отплясывая трепака на сваленных шершавых досках, выбивая пятками отчаянную дробь, пока не занозил подошву.
Тогда он стал на одной ноге - петушище и есть, - рябой, в веснушках, склонил набок победный гребень, посмотрел одним глазом, где и что случилось, вытащил мигом, будто склюнул, как муху, колючку и сызнова заладил со свистом, так что в ушах звенело:
- Тятька едет! Тятька едет!.. На по-бы-воч-ку-у!
И его сестренка, не умевшая ни плясать, ни петь, стала топать чулками в луже и громким шепотом повторять:
- Едет!.. Едет!..
А сама тетя Клавдия, мучительно улыбаясь, окатила из ведра с маху пол горячей водой, торопливо посыпала, точно посолила, мокрые половицы крупной матовой дресвой, чисто бузуном, и, худая, снежно-лилово-багровая, склонясь, будто переломясь в поясе, принялась молча, с силой, размашисто драть пол свежим ершистым голиком.
- Погодите, тетя Клавдя, я помогу! - вызвалась Растрепа, кидая холщовую сумку на стол, решительно засучивая рукава синей, такой же, как юбка, с горошком (единственной и потому бесценной) школьной кофты и берясь обеими тонкими, ловкими руками за ветошь. - До звонка - с полчасика... Еще ка-ак успе-е-ем! - пропела в лад Петуху она, преображаясь, становясь похожей на свою маленькую работящую мамку.
Шурка не вытерпел и тоже взялся подсоблять Яшке ломать остатки перегородки, таскать доски и горбыли на двор, рубить, колоть их там на дрова. Он делал все это старательно, с обычным удовольствием и не меньшим азартом, чем рушил и ломал, не помня себя, Яшка, но сам не мог оторвать взгляда от тети Клавдии, когда возвращался в людскую. Ему казалось, что таскает доски, рубит и колет их на дворе, возле крыльца, кто-то другой, может, один Петух, и никто ему не подсобляет, а он, Шурка, торчит безмолвным столбом у порога и все дивится, радуется на Яшкину мамку, узнает ее и не узнает.
Господи, боже ты мой, да она и в самом деле выздоровела, смотрите на нее, как скоблит пол дресвой и веником, прямо строгает рубанком, только что не стружки летят - брызги до самой двери, в Шуркино разгоряченное лицо. Они прохладные, брызги, приятные, хотя, наверное, и не очень чистые, просто, сознаться откровенно, самые что ни есть грязные. Надо бы утереться, отодвинуться подальше, да нет времени, другим занят делом, поважней и по горлышко. Тетя Клавдия моет-намывает пол и молчит, ему же, Шурке, мнится: она словно с кем в открытую спорит, прямо-таки ругается. "Врешь, врешь, буду жить, буду! Не помру!.. - криком кричат ее неустанно двигающиеся руки, напряженно согнутая спина, залитое пятнистым багрянцем и потом осунувшееся лицо, каждая синяя трепещущая жилка, самая малая бледная кровинка на запекшихся губах. - На вот тебе, я совсем, совсем выздоровела... здоровешенька!"
- Набеленько! - говорит ей в открытое окно одна из снох деда Василья, хлопотунья тетка Дарья, жена убитого Герасима, пробегая мимо и останавливаясь нанедолечко. - Набеленько тебе! - повторяет она известное бабье доброе пожелание, когда стирают белье или моют пол.
Яшкина мать, выпрямляясь медленно, как бы очнувшись от работы и спора, проводит верхней стороной согнутого снежно-чистого локтя по щеке и рассыпавшимся влажным волосам, оправляет их. Откликается не сразу, но живо, громко-радостно:
- Спасибо! Здравствуй, Даша...
- Неужто взаправду... едет? Жив? - спрашивает, запинаясь, Дарья, серая, в морщинах, как потрескавшаяся каменная земля.
И тете Клавдии будто становится стыдно и ужасно неудобно, что дядя Родя жив, едет домой, у Дарьи же никогда не вернется Герасим, письма не пришлет, и ей не доведется вот так намывать пол, прибираться в избе на радостях перед встречей. Охнув, Яшкина мамка прислоняется к стене, кашляет и плачет. Теперь она не сиреневая и не багровая, а белым-белая, как смерть, прежняя, какая бывает, когда лежит на кровати целыми днями. Но тогда она только кашляет, а сейчас еще и плачет. И Дарья у окошка глухо, безнадежно воет.
Глядя друг на дружку, они плачут и воют - каждая о своем. Одна - с радости и из жалости, другая - от непоправимой беды. А может, даже наверное, и та и другая мамка - и с горя и с радости, что, слава тебе, кому-то в жизни улыбнулось немножечко. Ах, как бы всем улыбнулось хоть столько же!.. И они плачут, словно молятся: заступница, небесная царица, сладкое целование, нерушимая стена, да поклонись ты там, на небе, в ножки господу богу, вымоли, выплачь у него милость несказанную, сделай чудо из чудес - вороти мужиков с войны, воскреси убитых, разыщи пропавших без вести, исцели безруких, безногих! Ты ведь все понимаешь, сама была женой и матерью, авось слеза твоя горячей, мольба слышнее, приятственнее, может, бог тебя и послушается...
Шурка, содрогаясь, думает: "Что же он постоянно молчит, бог?.. Почему не слушается? Ведь он действительно все может, стоит ему только пожелать, слово сказать - и чудо сотворится... Ой, зря мужики не записали в приговоре про войну! Притворились, будто ее и нет, а она есть - вот она... Да какая же это революция, если все осталось по-старому, провались она, не надобно ее, правильно кричат бабы, а мужики ничего не делают... Да, страшно, невозможно подумать, почему бог молчит, Василий Апостол молится, разговаривает и бранится с богом, но все равно у него, у дедки, двоих сыновей убило на позиции, а от третьего, последнего, Иванки, давно нет весточки, может, тоже не жив... Нет, лучше ни о чем этом не думать, не вспоминать!" Но этот плач-мольба Дарьи и Яшкиной мамки одинаково раздражающе-тревожен и бесполезен: плачь не плачь, молись не молись - чудес на свете не бывает, это уж Шурка знает наверняка от Григория Евгеньевича, настоящего бога. Поэтому хочется, чтобы тетя Клавдия и Дарья поскорей замолчали. И Катьке, видать, этого хочется и Яшке Петуху.
- Тетенька Клава, давай горячей воды скорееча! - просит поспешно Растрепа, чтобы оторвать Яшкину мать от стены, вернуть ее к прежней безудержно-веселой работе. А у самой, дурищи, трясутся непослушно губы, навертываются слезы, сейчас и она заревет на всю людскую (это она умеет превосходно, научилась у баб!), и тогда станет совсем плохо, будто дядя Родя вовсе не прислал письма и не обещал приехать из госпиталя. Но это ведь правда - письмо лежит в комоде, в верхнем ящике, Яшка показывал, чернилами написано, не карандашом, большущее. И в том письмище дядя Родя прописал, что он уже ходит без костылей, скоро нагрянет домой, должно быть, на все лето. Нет, нельзя, решительно невозможно по такому замечательному случаю плакать и молиться, надо только радоваться!
Решив это про себя, Яшка и Шурка, таская доски, задевают вдову Герасима трухлявым горбылем по темным, долгим, как у цапли, ногам, так, чуть-чуть, самым кончикам горбыля, и в один голос тихо-ласково бормочут:
- Ой, мы не нарочно!.. Поберегись, тетя Даша, зашибем!
Дарья отходит от окошка, бредет, пошатываясь, к себе, держась за палисадник, точно слепая.
Шурка переводит дух и наблюдает теперь за Растрепой. Она отняла у тети Клавдии голик, наступила на него маленькой цепкой ногой, и голик сам ходит у нее по полу, скоблит половицы дожелта. Катькина смуглая, в ранних цыпках нога и распаренный голик точно срослись и стали шваброй. Все движения Растрепы - и неуловимая хватка ее зверушечьих рук, выжимающих мокрую ветошь, туго ее скручивающих, и торопливое шарканье босых ног, эта живая, гуляющая поперек избы швабра, и как Растрепа поминутно взмахивает огненной гривой, подкидывая, возвращая на место непослушные, жесткие, свисающие спереди медной проволокой волосы, - все эти движения чем-то напоминают Шурке, как всегда, Катькину мамку, как та работает дома и на людях - быстро, ловко, без устали, даром что она, точно девчонка-подросток, низкорослая и худенькая, со зверушечьими мягкими лапками, точь-в-точь как у дочери. И все это, давнее, запомнившееся и сейчас внезапно ожившее, весьма ему по душе.
- Да не путайтесь под ногами, господи! - кричит Растрепа на Шурку и Яшку, голосом своей мамки. - Мешаете, не видите, что ли? Убирайтесь отсюда!
Конечно, они и не думают слушаться.
Шурка не устает любоваться на Катьку и многое ей прощает из того, что за последнее время стало ему не нравиться, особенно ее отдаление от него, постоянное тяготение Растрепы к девкам и бабам, замеченное им еще в святки, с тех пор как Татьяна Петровна перешила и подарила ей свое старое пальто с лисьим воротником. Но сегодняшнему любованию есть и другая причина, может быть, самая главная, уж во всяком случае, самая свежая, толкающая бесом в бок.