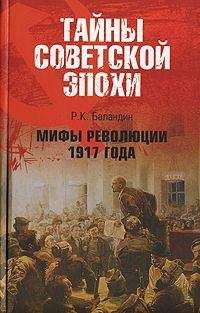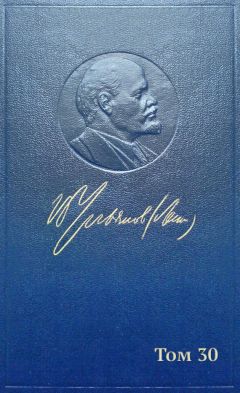Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года - Булдаков Владимир
Сейчас нужен спокойный, трезвый взгляд, твердая рука и готовность, жертвуя своей карьерой, проявить железную волю против развращенных войск и пулеметами и артиллерией заставить их проявить хотя бы минимум воинской доблести и честности. Брусилов предпочел передать все в руки Керенского. Вот новоявленный полководец! Военное невежество ему простительно и было бы странно, если бы присяжный поверенный оказался знающим и сведущим военным начальником. Но у этого человека безграничное самомнение… Или Керенский печально сойдет со сцены, доведя Россию до глубокого военного позора в ближайшее время, или он должен будет очнуться, излечиться от своего самомнения…
Как только стала вырисовываться картина провала наступления, А. А. Брусилов впал в панику. Обращаясь к командующим фронтами, он комментировал произошедшее так:
События идут с молниеносной быстротой. По-видимому гражданская война неизбежна и может возникнуть ежеминутно… Несомненно, что с последним выстрелом на фронте все, что теперь еще удается удержать в окопах, ринется в тыл, и притом с оружием в руках. Это саранча, способная все поглотить на своем пути… К этому надо быть готовыми так же, как и к надвигающейся гражданской войне, и противодействовать этому можно тоже, имея только части, сохранившие порядок. Время не терпит…
20 июля, после отставки Брусилова и назначения на его место Корнилова, Алексеев отмечал, что «уход Брусилова в штабе верх[овного] Главнокомандующего встречен с удовольствием и чувством глубокого удовлетворения». На деле ход событий уже не зависел от перестановки в армейских верхах, что подтвердило поведение солдат. Иной раз после успешной атаки они отступали к прежним окопам, не желая оборудовать новые позиции. Они готовы были протестовать против любого действия, «которое им казалось нарушением миролюбивой политики». Кое-где солдаты покидали окопы, мотивируя это тем, что их не сменяют. На передовой оставались одни офицеры, которые о беглецах отзывались так: «Эта сволочь, запрудившая тыловые дороги, будет говорить, что офицеров во время боя не видать, что они всегда позади…» Отступавшие толпы мародерствовали, «угоняли коров, избивая сопротивлявшихся жителей» 87.
Ситуация была и постыдной, и трагической. На Юго-Западном фронте один поручик пришел к выводу, что «армия решительно идет к распаду». И дело было не только в отказах идти в наступление. Мирное население высказывало свое недовольство: «Не проходит дня, чтобы солдаты не украли и не зарезали нескольких овец, свиней, телят и поросят». Солдаты продавали «все что можно: обувь, белье, палаточные полотнища».
Правительственная пропаганда попыталась представить более оптимистичную картину событий. Сообщали, что войска, движимые «могучим революционным порывом, перешли в наступление», было захвачено 90 орудий, более 400 пулеметов, до 36 тысяч пленных, однако, «собравшись с силами, внешний враг… перешел в наступление». А потому теперь требовалось «спасать свободы, спасать Родину». Последовали и репрессии: солдат, сдавшихся в ходе наступления, считали предателями, им было отказано в помощи Красного Креста.
Руководителей армейских комитетов, пытавшихся на митингах агитировать за наступление, с руганью стаскивали с трибуны. Напротив, большевик, заявивший о том, что латышские стрелки приняли решение не воевать, встретил одобрение. Росло недовольство правительственными комиссарами. Был случай, когда солдаты убили одного из них, несмотря на то что он сам вел их в наступление. Подозревали, что комиссары вели двойную игру: уговаривали солдат, а сами секретничали с офицерами. Порой и офицеры признавали после ранения в бесполезной атаке, что «вспышка идеологии барина, офицера, патриота, либерала, националиста, заставившая… уговорить полк и бросить еще несколько тысяч человек под пули, улеглась» 88. Восстанавливать дисциплину в армии было некому. Уже после революции один журналист отмечал:
Сущность демагогии – не в том, что она расковывает стихийные чувства толпы. Ее сущность в том, что она направляет по политическому руслу неполитические стихийные рефлексы. Она пользуется для политических целей неполитическими средствами. В этом ее неискренняя, обманная природа. Ради своих корыстных расчетов демагог старается разбудить в слушателях первобытную жажду крови…
Однако российские политики продолжали свои привычные – доктринально-политические – игры.
Провал летнего наступлении и грубые попытки прессы обвинить в этом то «революционизированных» солдат, то скрывавшихся в армии «бывших жандармов и городовых» вызвали ответную – и не менее голословную – реакцию большевиков. «Пролетарий» опубликовал две статьи И. В. Сталина, в которых он связал причину поражений с «общей неподготовленностью к наступлению, превратившей это наступление в авантюру». Он потребовал участия солдат в ведущемся Ставкой расследовании хода отступления из Тарнополя и установления контроля нижних чинов над действиями своих начальников с правом замены всех подозреваемых. В противном случае, предупреждал он, «кто может ручаться, что после того, как „провоцировали“ сдачу Тарнополя, не „спровоцируют“ еще сдачу Риги и Петрограда для того, чтобы, подорвав престиж революции, утвердить потом на ее развалинах ненавистные старые порядки?». Это заявление было сделано 18 августа. Рига была оставлена два дня спустя.
Выпад Л. Д. Троцкого был более изощренным. Наступление он назвал «самым лучшим подарком для кайзера»: «Вильгельм получил возможность ответить контрнаступлением», которое чревато опасностью для российской столицы. В этом виновато Временное правительство, «плясавшее под дудку кадетских империалистов», а заодно и поддержавших авантюру эсеров и меньшевиков. Похоже, по части демагогического возбуждения страстей большевики переиграли всех.

«ЗАГАДКА» ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ
Психика населения была возбуждена до крайности. Люди, конечно, «подзуживались» извне. Об этом свидетельствует кровавое столкновение солдат с петергофскими юнкерами, выступившими 21 июня 1917 года с лозунгами: «Да здравствуют Керенский и Брусилов!», «Долой шпионаж!», «Честь свободной России дороже жизни!», «Да здравствует Временное правительство и съезд!» (Советов. – В. Б.). Солдаты запасного батальона объясняли свой поступок тем, что им «надоело ждать» (вероятно, они устали от неопределенности: то ли война, то ли мир), их раздражало то, что «партии между собой борются, а дела никакого не видно». Непонимание логики действий политических верхов обернулось немотивированным ожесточением. Примерно так понял ситуацию представитель следственной комиссии, определивший настроение солдат как «пугачевщину». «Эту массу [солдат] можно вести куда угодно и для чего угодно, – докладывал он. – Крайняя бессознательность ее прямо-таки поражает. Нисколько не отличается от этой массы и сам предводительствовавший кучкой солдат подпрапорщик Богданов». Впрочем, ближайшую причину агрессивности солдат все же нашли: солдаты отомстили будущим офицерам за то, что те не участвовали в «их» антивоенной демонстрации 18 июня в Петрограде. Получалось, что «борьба за мир» приобрела братоубийственный характер.
Писатель Ф. Д. Крюков считал, что сила армии в среднем солдате. Впрочем, в силу «толстовской» традиции он его идеализировал:
…Самое выпуклое в его духовном облике… та мягкая душевная округлость, в которой есть всего: и покорная готовность на всякое дело, какое укажут, и философия фатализма, питающая непоколебимое равнодушие к существу и смыслу поручаемого, и ленца, и удивительная способность применяться к любому делу и делать его с бескорыстным, чисто артистическим увлечением.
Трудно сказать, как эти черты «среднего» солдата писатель (некоторые считали его настоящим автором «Тихого Дона») подсмотрел, как они проявили себя в 1917 году. В то время бросалось в глаза нечто иное. «Средние» сделались незаметными. На первый план выдвинулся иной типаж.