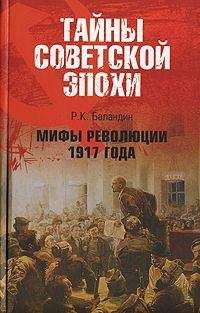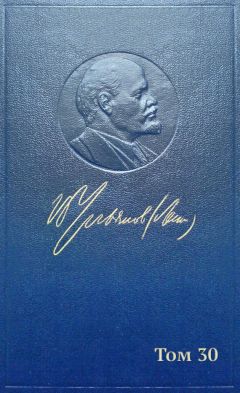Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года - Булдаков Владимир
На улицах опять мартовские дни. Появились автомобили с прицепленными на них пулеметами – организованные банды солдат останавливают автомобили, высаживают оторопелых пассажиров и тут же на глазах сбежавшейся толпы украшают его [грузовик] пулеметом, какие-то грузовики разъезжают и раздают этим солдатам пулеметы… Кроме солдат, во всем этом принимают деятельное участие люди, одетые в косоворотки, по внешнему виду сознательные рабочие…
«Догмат о буржуазии есть один из самых крайних и страшных в революции – ее высшее напряжение, когда она готова погубить самою себя», – писал 13 июля 1917 года А. Блок. Теоретическая абстракция превратилась в ненавистный образ, который подталкивал возбужденное сознание к поиску конкретного врага. Большевики не могли ни контролировать, ни тем более усмирить поднявшуюся на этой основе стихию. «Третий день смуты, – комментировала происходящее А. В. Тыркова. – Все то, что левые вызывали, поднялось. Хулиганы, большевики, немцы, все хозяйничают».
Поражает, до какой степени по-разному воспринималось происходящее. Рабочим казалось, что они защитили революцию от «буржуев», продемонстрировав при этом «силу и мощь пролетариата». Справа их упрекали в том, что они потворствуют контрреволюции. М. Горький полагал, что событиями управлял «страх перед революцией, страх за революцию». Либеральная пресса сетовала: «На знаменах демонстрировавшей толпы не было ни одного требования, которое имело бы реальный политический смысл», тут же признавая, что только «темперамент и настроение неудовлетворенности» заставляли людей идти за большевиками. Однако движение не нуждалось в большевиках 90. Возможно, именно поэтому многие были убеждены, что событиями движет какая-то «чужая рука».
По сути дела, город оказался в руках рабочих и солдат. Тогдашним лидерам Петроградского Совета осталось только официально проштемпелевать то, что случилось de facto. Часть солдат у Таврического дворца почти всю ночь безуспешно уговаривала руководителей Совета взять власть. Свои попытки они возобновили на следующий день. Тогда и произошел символический случай: В. М. Чернов, пытавшийся урезонить толпу, услышал в ответ слова рабочего: «Принимай власть, сукин сын, коли дают!» Отказавшийся от такой чести «селянский министр» был тут же арестован возбужденными анархистами, по словам Л. Д. Троцкого, «полууголовного-полупровокаторского типа». Он же и выручил Чернова, поставив перед толпой на голосование вопрос о его освобождении, – никто не возражал. По другой версии, на речь Троцкого анархисты реагировали отрицательно; отпустили Чернова не они, а «остывшие» матросы. В конечном счете лидеры ЦИК обещали митингующим созвать через две недели Второй съезд Советов. Это было физически невозможно, но к вранью привыкли, а в данный неловкий момент важно было «достойно», не теряя лица, разойтись.
Н. Н. Суханов отмечал, что «никакой планомерности и сознательности в движении „повстанцев“ решительно не замечалось». Столь же неуверенно вели себя «правительственные» войска в лице «юнкеров, семеновцев, казаков». «Обе стороны панически бросались врассыпную… при первом выстреле» и в конечном счете разбежались, когда начался проливной дождь. Тем не менее Суханов попытался «дорисовать» картину событий. По его мнению, самый факт «неожиданного» освобождения Троцким Чернова дезориентировал матросов: «момент был упущен, настроение сбито, психика запутана», а потому лидеры отправили их «на отдых». Как всегда, стремление мысленно «упорядочить» стихийные события победила. Между тем специальная комиссия установила, что в столкновениях погибли 16 человек, еще 40 умерли от ран, около 650 были ранены.
Скорее всего, логика произошедшего была проста: поскольку Временное правительство ушло в отставку, столичные рабочие решили, что его естественным образом – вполне мирно – должен заменить Петроградский Совет. Их по-своему поддержали солдаты столичного гарнизона и демонстрирующие свою «революционную решимость» кронштадтские матросы. Именно со стороны последних отмечались вспышки немотивированной жестокости. «…Творится что-то невероятное, нелепое, кошмарное, – сообщал епископ Уфимский Андрей (Ухтомский), наблюдавший за происходящим 4 июля на углу Невского и Литейного. —…Не озверели ли мы с нашими самочинными заповедями?» Далее он свидетельствовал:
Идет молодой офицер, почти юноша. К нему, совершенно безоружному, подходят пять-шесть матросов, вооруженных с ног до головы, и хладнокровно прикладами убивают несчастного юношу. А толпа глупо, бессмысленно молчит и никто не сделал попытки спасти несчастного.
В прессе об этом не упоминали. Писали обычно о грандиозных похоронах казаков. «Огонек» опубликовал серию фотографий «похорон жертв заговора большевиков». Одна из них сопровождалась подписью: «Осиротевшая мать идет за погребальной колесницей».
6 июля Временное правительство выступило с постановлением о привлечении к судебной ответственности бунтовщиков. На следующий день было принято решение о расформировании воинских частей, принимавших участие в мятеже, 8 июля – об аресте матросов, прибывших в Петроград на судах «Орфей» и «Грозящий». 9 июля была создана Особая следственная комиссия для поиска виновных в кровопролитии.
Некоторые предлагали нечто иное. Брешко-Брешковская требовала, чтобы Ленин и большевики были посажены на баржу, которую следовало вывести в Финский залив, «открыть в дне пробки» и утопить ее вместе с людьми. Но Керенский, вспоминала она, решительно отвергал такие советы. Интеллигентные вожди упорно следовали букве закона, тогда как большевики все основательнее проникались духом стадных страстей.
Тем временем последовала перетасовка состава Временного правительства, что, впрочем, не вызвало реакции у населения. Более впечатлили известия о том, что большевики действовали на «немецкие деньги». Вопрос о финансировании экстремистов возникал с 1915 года в самых различных контекстах, причем не только в России. Среди немецких промышленников находились люди, готовые лично содействовать сепаратному миру. В России поисками путей к той же цели будто бы занимались такие авантюристы, как князь Д. И. Бебутов и журналист И. И. Колышко. Все это происходило на фоне неутихающей шпиономании. Соответственно, в глазах общественности июльские события предстали в параноидальной ауре.
О финансировании большевиков Германией первым в марте 1915 года заговорил во французской прессе журналист Г. А. Алексинский. Его информацию подхватил редактор газеты «Русская воля» А. В. Амфитеатров. Последующие обвинения в том, что Ленин – «немецкий шпион», строились на показаниях Д. С. Ермоленко, попавшего в плен еще в ноябре 1914 года. Он был завербован немецкой разведкой, но после переброски в Россию в конце апреля 1917 года решил повиниться. В ходе допросов он детально описал подготовку сформированного германским командованием из военнопленных-украинцев 1‑го Украинского полка имени Шевченко, а затем, между прочим, вспомнил слова немецкого офицера о том, что с украинцами, в частности с самостийником А. Ф. Скоропись-Иолтуховским, постоянно контактирует Ленин.
Строго говоря, легенда была шита белыми нитками. Похоже, сначала российские контрразведчики хотели использовать Ермоленко для дискредитации «украинского сепаратизма», однако в связи с наступлением на фронте поспешно вложили в его уста «ленинскую легенду». Опровергнуть ее в суде не составило бы труда. Однако бульварные газеты затрубили о связи Ленина и с Германией, и с «сепаратистами». Разумеется, ради ослабления противника немцы готовы были субсидировать кого угодно. Но после знакомства с многочисленными протоколами допросов Ермоленко (неоднократно контуженного) нетрудно было заключить, что его намеренно дезинформировали. Сам Скоропись-Иолтуховский в язвительной форме публично опроверг эти выдумки: Ленин физически не мог встретиться с ним.
Из материалов следствия видно, что большевики пользовались сомнительными деньгами от контрабандно-спекулятивных акций. Можно также предположить, что немецкие деньги через Л. Б. Красина, работавшего в Русско-Азиатском банке, действительно поступали большевикам, но не по тем каналам, по которым предполагали сотрудники следственной комиссии. Скорее всего, это было известно Ленину, но вряд ли вызвало у него моральные угрызения. Согласно «единственно верной» марксистской теории, империалистический мир объективно двигался к собственной гибели – оставалось только помочь ему в этой «исторически-прогрессивной» задаче за его же деньги.