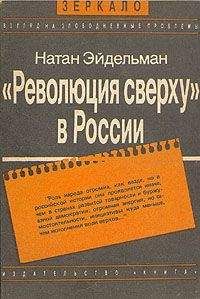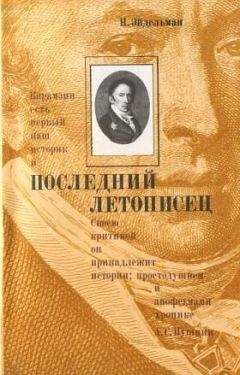Натан Эйдельман - Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине
Я уж толковал о десятке свадеб, сыгранных почти накануне восстания, — но и на самой площади, господи, сколько улыбок, хохота.
И все же я 30 лет не мог выговорить, что 14 декабря было весело; не мог, пока не прочитал строчки покойного Николая Александровича Бестужева о том роковом дне: «Я стоял, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою».
Далее, правда, Н. А. говорит, что дыхание стеснялось, подступала горечь. Думаю, что он переносит назад некоторую часть последующей горести — ну, да ладно…
Хуже всего было ранним утром: не выспались, холодно, мысль — выйдут — не выйдут, присягнут — не присягнут? Что-то надо делать — но что же?
Вышли — и свобода выбора кончилась! Тяжкая это вещь, Евгений, свобода выбора; зато, если судьба уж за тебя решила, плыви, подхваченный течением, и славно!
Вот так и Пушкин мой в Болдине: холера все решила, заперла — ну и бог с ним! «Вперед, вперед, моя исторья!» Хоть и не совсем наш эпизод, а все ж похож.
Однако меньше слов. Попробую вспомнить только несколько поводов к смеху, веселью.
Первое. Солдаты, московцы, выходят шумно, со свистом. Их полковник пытается удрать, подхватив полы шинели. Солдаты хохочут, когда Щепин-Ростовский, рыча, понесся за полковником.
Назвал Щепина — и вот второй повод к смеху. Грозный, разгулявшийся штабс-капитан сгоряча и некоторых своих угостил кулаком, палашом, а один из них кричал: «Ваше высокоблагородие, я же за Константина Павловича!» Притом Щепин-Ростовский, кажется, и не разобрался до конца, из-за чего бунтуем и что Константин не причина, а повод. «Конституция! — говорит он Михайле Бестужеву, — к черту ее!» — и Бестужев вынужден согласиться: «Да, конечно…»
Поднял князь Щепин-Ростовский московских, взметнул, привел — и устал, сник, вызывая у меня на площади постоянную улыбку, хотя и не такую, как Якубович.
Вот и третий нумер в моем списке. Вы его не видали: смуглое лицо, черные, сросшиеся брови, гигантские зубы, угрюмое, истинно зверское выражение лица — он шествовал перед солдатами с поднятой саблей, а на ней шляпа…
Но вот является на площадь Кюхельбекер с огромным пистолетом — и, честное слово, даже сейчас, когда моего бедного Кюхли нет на свете, и смеяться куда труднее, и слезы опять подступают, — не могу все же удержаться от сатирства.
Вильгельм на площади: это была картина, это был каскад необычайных речей, восклицаний, немыслимых телодвижений! Но о том еще, бог даст, скажу отдельно.
А пока — ежели не убедил я вас, что было много веселостей — так слушайте еще про смех, озорство и бог знает что еще.
Не забудьте — солдаты до конца почти были уверены, что все в порядке, всесправедливо, все сейчас уладится — и мы ведь заряжаем их бодрым духом, — а в конце концов и сами зарядились.
И сколько хохоту было из-за полного крушения табели о рангах — невиданного, немыслимого сдвига в понятиях. Это, как понимаете, само по себе рождало разные веселости и балагурства.
Унтер-офицер, 17-летний Луцкий останавливает самого Милорадовича.
Генерал: «Что ты, мальчишка, делаешь?»
Луцкий дерзит (и замечу, невольно бередит незаживающую рану бедного генерал-губернатора): «Где наш Константин? Куда вы его дели? Вы изменили ему!»
Бежит через площадь какой-то полковник, а ему — тумака. Еще один генерал — его за шиворот: «Кому присягаешь?» Щепин-Ростовский в эти часы не меньше, чем полный генерал, Оболенский — фельдмаршал, а я уж не знаю кто, но большое превосходительство… Ладно.
Пятый или шестой смех (сбился со счету, лень пересчитывать) — это просители. К нам-то, молоденьким офицерикам не старше штабс-капитана, — к нам сперва пожаловал генерал-губернатор, потом начальник гвардейского корпуса Воинов (тихонько явился, с опаскою), — затем — перепуганный Бистром, затем — его высочество Михаил, потом внезапно два митрополита, а долгогривым весело кричали: «Не стыдно ли, отче, за две недели двух императоров благословляете!» (После узнал я, что Серафим Петербургский растерянно спросил кого-то из главных: «Да с кем я пойду к мятежникам?» — и услышал: «С богом!»)
Наконец, подлый Сухозанет, с его грешками, о которых даже тебе стесняюсь говорить — и он тоже учит нас благородным правилам; ну мы уж его припечатали, а я, помню, заорал (и рассмешил почему-то многих): «Генерал! Пришлите кого-нибудь почище вас!»
Евгений, я просто сбиваюсь со счета и бросаю нумеровать — по просто представляю тебе фантасмагорию смеха — замешанного, конечно, на опасности, отчаянии и чувстве, что все уж кончено.
Так вот — разумей:
Рылеев вдруг объявляет, что нам, штатским, нужно надеть простые кафтаны, чтобы народ и солдаты больше доверяли… Смеемся (и Рылеев — с нами) — легко доказываем, что чиновник и офицер в мундире понятнее солдату, нежели барин в зипуне.
— Чего хотим? «Ура Константину!» — но отсюда рождается анекдот, который ходит вот уже 30 лет: знаете, конечно. «Ура Конституция, жена Константина!» — я и не знаю, то ли наши пустили это со смеху, то ли кто-то всерьез поверил…
Чего еще хотим?
Сенаторов учить «языку революции». Но где сенаторы? Мне шепчут, что Сенат уж пустой и вроде бы странно (да и смешно), что мы перед ним мерзнем. Это как если бы Наполеон просто не нашел 18 брюмера депутатов, коих собирался подчинить.
Перемигиваемся и отправляем нескольких солдат на сенатскую гауптвахту (где тоже свои) — оттуда доставляют водку, и вокруг Петра делается чуть теплее.
А я, признаюсь, ощутил тогда род гордости: вот оно, мое Бородино; столько раз мечтал на лицейской скамье, завидовал братьям Раевским, Тучковым — как весело и славно бились!
Вот и мой случай… Даже поделился с одним почтенным лейб-гренадером этой мыслью, а он отвечал: «Так ведь, барин, под Бородином все же теплее было, может, молодой был?»
Мало вам смеху? Вот и еще.
Ростовцев вдруг возник и начал уговаривать солдат разойтись, но главное — заикался необыкновенно, и его сперва слушали с уважением — думали, он за нас, пока не вслушались, тогда крепко ружейным прикладом приложили.
А тут Иван Андреевич Крылов идет, как видно, по своим делам — и Бестужев Александр ему: «Здоров ли, Иван Андреич?»
А старик — мы и не ожидали! — подошел, толпы не испугался или, скорее, не заметил, потому что нас не стал расспрашивать, зачем стоим, а просто принялся обходить строй и руки знакомым пожимать — Кюхле, потом Саше Одоевскому. А Кюхля меня эдак по-светски представляет: «Мой лицейский друг Иван Пущин». Мы смеемся, кричим: «Уходите, Иван Андреевич!» И он пошел, так и не заметив восстания; а впрочем, возможно, что прикинулся — но уж так хитро, что и до сей поры не могу точно ответить. Жаль, нельзя уже Крылова самого расспросить.
Вдруг крики: «Пушкин! Пушкин!» — у меня сердце провалилось: неужели Александр по моему письму, вовремя, нечего сказать!
И в самом деле, веселый, курчавый — секунду не мог сообразить, потом понимаю — Пушкин, но Левушка. Сходство чрезвычайное, также и быстрота речи, движения (мне говорил Анненков, что почти невозможно па письме различить руку Александра и Льва).
Левушка ворвался к нам в строй, с Кюхлей обнялся, со мною, схватил у кого-то палаш, только что отнятый у полицейского, — и давай размахивать. Дитя.
Спрашиваю его — что братец? Он мне, помню, кричит: все от него обедаю! Я сперва не понял, да и шум страшный, солдаты все время палят (с пальбою веселее и свободнее). Но Левушка все-таки накричал мне в ухо, что брат присылает все время стихи для Плетнева, а в деревне еще давал прочесть Льву, — «ну а я с одного раза выучил» (память у младшего Пушкина была диковинная!), возвращается в столицу, пускает слух, что в голове — новые братнины стихи, к примеру — «Цыганы». Левушку тут начинают всюду приглашать — в такие дома, куда его, шалопая, в жизни бы не позвали. Карамзин, например, зовет — Лев приходит, ест, пьет, куражится за себя и брата, а на десерт потчует хозяев «Цыганами» или «Кораном». После того же, как у всех отобедал, — наврал гусарам и трижды был восторженно принят, угощая их… своими собственными виршами (списывать, правда, не давал).
Лев только успел мне сказать, что гусарам его сочинения были интереснее братниных, как из толпы раздался крик: «Лев Сергеич, маменька разгневается, и мне достанется!» Л. С. на слугу чуть не с палкою, и пришлось ему намекнуть, что если наша возьмет, так Никита его будет в равных правах с барином. Левушка сострил нечто вроде — хоть в последний раз перед свободою потешусь; но позже все-таки поддался призыву своего человека, вышел из каре и, говорят, наблюдал за нами из толпы.
Ты скажешь, Е. И., — все это увертюра, и улыбались мы, покуда порохом не запахло.
Наоборот! Чем дальше и страшнее — тем веселее мне было. (Может быть, проявление обычных свойств погибающего человека, если он не последний трус?)
Раскладываю в памяти события по порядку — все же часа четыре, а то и больше выстоял у памятника Петру — и по-прежнему не могу избавиться от эпизодов комических и трагикомических — недаром несколько актеров каким-то образом замешано в это дело. Не говоря уже о знаменитой Телешовой, у которой Милорадович ел кулебяку, в толпе, сочувствующей мятежникам, мелькают Каратыгин, Борецкий… У своего дальнего родственника Борецкого скрывался некоторое время после восстания Михаил Бестужев.