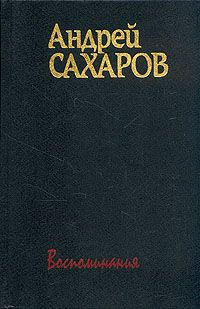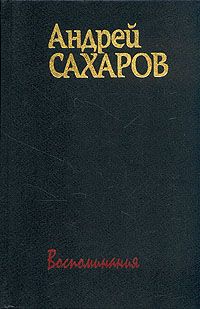Анатолий Иванов - Вечный зов (Том 2)
- Дак пойдем вместе, - сказал Виктор.
- Айда... - Димка встал и принялся стряхивать с колен стружки.
Стряхивал их долго... "Что же сказать? Что сказать?!" - колотилось больно у него в голове, когда он выходил со двора, шагал мимо Витькиного дома. Вот уже и дом миновал, вот угол плетня, да вон и сама Ганка, а рядом с ней горбоносый Инютин. "Как же это я не сдержался? Язык бы лучше откусить!"
Ганка стояла злая, еще более красивая в гневе, глаза сверкали ярко, так сверкали, что больно было смотреть. У нее действительно был огромный букет сирени, только она держала его в опущенной руке, как веник.
- Ну, говори! - потребовала она, задыхаясь. - Когда это ты узнал... что я тугая? Говори сейчас же, при всех! Ну, сочиняй...
Это "сочиняй" было каким-то спасительным. Ведь Ганка, в конце концов, ни в чем не виновата, что в ту ночь он, Димка, впервые дотронулся до ее тела, и, теряя разум, сжал в ладони теплый бугорок ее груди. Она ведь даже не проснулась, только вздрогнула во сне и перевернулась со спины на бок, напугав его своим движением до потери сознания...
"А может, и проснулась?!" - вдруг опалила впервые его, ошеломила вот сейчас, здесь, у ограды кашкарихинского дома, страшная догадка. Ведь именно после той ночи, бессонной, какой-то дурманной, началось непонятное между ним и Ганкой, пролилось что-то холодное, отчуждающее. "Что, если она проснулась? Ну конечно, конечно..."
Дело было зимой. Марья Фирсовна, Ганкина мать, затеяла побелку дома, но за день не управилась, вечером у них с Ганкой хватило сил вымыть полы только в одной комнате.
- Давайте спать, постелимся все на чистый пол. Завтра домоем уж везде, сейчас ноги не держат. Ганюшка, Дмитрий, разворачивайте одежу...
Все легли вповалку, Димка приткнулся где-то на свободный клочок пола, и, уже засыпая, понял, ощутил всем телом, что лежит рядом с Ганкой. Вот она посапывает сбоку, чуть даже прихрапывает, а сразу за ней ровно и глубоко дышит ее мать. Сон у Димки рукой сняло, он почувствовал, как плавится в груди, там, где сердце, необычный жгучий жар.
Шло время, прошло, наверное, много часов, все тикали и тикали ходики, которые он сам и повесил на свежевыбеленную стенку, на старое место, и гирька опускается все ниже. Тиканье часов да дыхание спящих - больше и не было никаких звуков в комнате. Димка не спал и понимал, что в эту ночь не уснет.
Прошло еще немало времени, наверное, очень даже много, в голове у Димки теперь гудело. И, не помня себя, не соображая, что делает, он протянул руку, дотронулся до разметанных на подушке Ганкиных волос. Волосы были мягкие, холодные, его прошило током. Сознанием он понимал, что делает недозволенное, что руку свою надо немедленно отдернуть. Ганка ведь проснется, закричит, и тогда... Но пальцы его сами собой перебирали пряди ее волос, задели ее щеку. Чувствуя теперь, как пальцы дрожат, он скользнул ими по ее шее, по плечу, и его ладонь неожиданно легла на крепкий бугорок ее груди, обтянутый нагревшимся от тела ситцем... Ганка вздрогнула, зачмокала во сне губами и повернулась к нему спиной, легла на бок. Оглушенный, он не в силах был отдернуть руку, ладонь теперь лежала на ее мягком и тоже горячем плече, и Димка боялся снять ее. Теперь-то, ему казалось, она обязательно проснется, едва он пошевелит рукой.
Так его ладонь и пролежала у нее на плече до рассвета. Вот и все.
Нет, не все. Утром Ганка - сейчас Дмитрий это вспомнил отчетливо - ни разу не взглянула на него, все отворачивала в сторону припухшее за ночь лицо и быстро убежала в школу. И потом несколько дней будто не замечала его. А после и начала кидать усмешечки, пырять разными шуточками, и, наконец, вот это: "И на меня ты вот так же все зыришь..."
...Это "сочиняй" было спасительным, Димка знал, что теперь ему говорить, хотя сразу слов никак подобрать не мог.
- Чего, я спрашиваю, в рот воды набрал? - опять донесся до него сердитый Ганкин голос.
Она глядела на него враждебными глазами. И Николай Инютин смотрел на Димку виновато, ему тоже было неловко.
- Сволочь ты, Колька, понятно? - выкрикнул Димка.
- Чего-чего? - Инютин приподнял крючковатый нос.
- Ничегокай. Я... ну, сочинил... Назло тебе, прихвастнул... А ты?!
У Ганки дрогнули зрачки, презрительно сложенные губы чуть отмякли. Все это Димка заметил в одну секунду, почувствовал большое облегчение, повернулся к ней.
- Вот... Прости меня.
- Подлец! - дохнула она ему горячо прямо в лицо. Взмахнула букетом, ударила по лицу. - Я тебя прощаю... прощаю, прощаю...
Выкрикивая это сквозь слезы, она безжалостно хлестала Димку по лицу, по плечам, мелкие сиреневые звездочки разлетались в разные стороны, обсыпая его плечи. Димка не защищался, опустив плетьми длинные и уже сильные руки, отступал, пятился, пока не уперся спиной в изгородь.
- И ты? И ты... дурак горбоносый! - повернулась она, разгоряченная, к Николаю. - И ты руки распускать! Вот тебе... вот!
И Ганка обхлестанным уже букетом принялась колотить по плечам и лицу Инютина.
- Сдурела! - Николай пытался поймать и отобрать у нее сиреневый веник, но это ему не удавалось. - Сдурела...
Руку Ганки перехватила появившаяся мать Николая. Как она подошла, никто из четверых не заметил.
- Вы что это? - спросила Анфиса строго. - Ты же глаза выхлестнешь...
- Сбесилась она совсем, вот чего, - буркнул Колька, пошел прочь.
- Обидели они тебя, что ли? - спросила Анфиса у Ганки.
- А вам какое дело? - зло прокричала Ганка, взмахнула уже почти голыми сиреневыми прутьями, будто хотела ударить и Анфису. Но не ударила, отшвырнула то, что осталось от букета, зарыдала и побежала домой.
Витька прямо через изгородь пролез в свой огород и пошел по рядкам картофельных всходов. Анфиса и Димка остались одни.
- Хулиганье вы, однако. Зачем девку обижаете? - спросила она.
- Ее обидишь! - усмехнулся Дмитрий, приложил ладонь к щеке. Лицо, больно нахлестанное Ганкой, горело.
Потом Анфиса и Дмитрий молча пошли. Мать Инютина возвращалась из библиотеки, где она работала теперь уборщицей, в руках у нее была хозяйственная сумка.
- Как мать-то там, в колхозе? - неожиданно спросила она, останавливаясь у калитки дома Дмитрия.
- Работает, что ж тут.
- Отец-то пишет, нет?
- Нет...
- А Семен?
- От него недавно письмо было.
- А наш батька что-то давно замолчал, - сказала мать Николая. - Уж не знаю, что и думать...
- Мало ли, - проговорил Димка успокаивающе, по-взрослому. - Там ведь так... не всегда и напишешь.
- А ты на отца все больше становишься похожий. Я его и в таких вот годах, как твои, помню. Прямо вылитый ты. И взгляд такой же...
Димка не то чтобы знал что-либо определенное об отношениях своего отца и матери Кольки Инютина в молодости. Но по отдельным словам своих родителей, по некоторым фактам поступков и поведения обоих смутно догадывался, что Инютина эта играла тут какую-то роль и что она, кажется, принесла его матери много горя. Поэтому на последние слова Анфисы он ничего не сказал, только взглянул на нее чуть удивленно, вопросительно. И она, взрослая женщина, смутилась, смешалась и пошла к своей калитке.
Она шла быстро, легко, по-девчоночьи, и Димке показалось, что это с ним разговаривала, стояла вот тут сейчас не тетка Анфиса, а дочь ее Верка.
* * * *
3-й гвардейский танковый полк, отведенный после тяжких февральско-апрельских боев на доформировку и отдых в сожженную немцами деревушку Тасино под Курском, в самом конце июня получил приказ выдвинуться под сельцо Фатеж, стоявшее на тихой и светлой речке Усоже.
Шоссейная дорога Курск - Орел, содержавшаяся до войны в образцовом состоянии, сейчас была сплошь в рытвинах и ухабах, местами дорожное полотно зияло глубокими воронками. Длинная танковая колонна, двигающаяся и без того на малых оборотах, объезжая эти воронки, еще более замедляла ход.
Стояла сушь, траки взбивали пыльную пудру, она клубами взрывалась под танковыми днищами, тугими струями хлестала во все стороны, забивала, запечатывала щели триплексов. Машины шли будто в густом молочном тумане, Семен ничего не видел, кроме мутной пелены, и, боясь врезаться в машину, идущую впереди, яростно матерился про себя.
Под Фатеж прибыли к вечеру, солнце садилось во вспучившиеся до неба пыльные облака. Семен, грязный, как трубочист, выбрался из танка, снял шлемофон и гимнастерку, начал выколачивать из нее пыль об ствол ободранной березки. Рядом отряхивались, отплевывались от пыли стрелок-радист Вахромеев, командир орудия их повидавшего виды KB сержант Алифанов и дядя Иван, заряжающий.
- А я-то думаю, что это полк двинулся при ясном солнышке, в открытую, проговорил Семен, кивая на серое, пыльное небо, тяжко висевшее над землей. - А тут такая маскировка.
- Речной мятой тянет вроде. - Иван, глядя на мутное небо, принюхался, будто запахом мяты оттуда, сверху, и тянуло. - Где-то речка рядом. Умыться бы хоть. А, Егор Кузьмич?
Алифанов, маленький, плотный артиллерист с такими же усами-подковками, как у Ивана, молча поглядел на командира танка старшего лейтенанта Дедюхина, неуклюже вылезающего из люка.