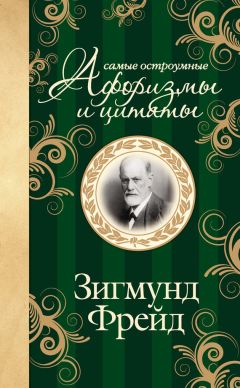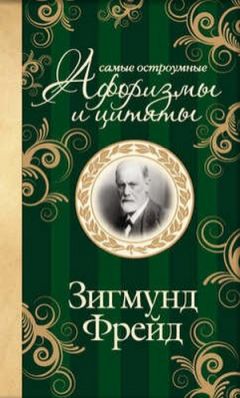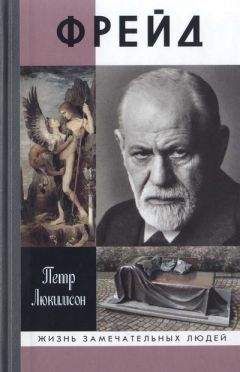Лидия Флем - Повседневная жизнь Фрейда и его пациентов
Несмотря на столь мучительное положение венских евреев, Фрейд не хотел принимать ни радикального решения, которое вызывало у него отвращение и состояло в отречении от своей веры и в крещении, ни социально-политического решения, предлагавшегося социал-демократами (к ним присоединились многие евреи), ни того решения, что предлагал сионизм. Уйдя с головой в изучение мира бессознательного, а не конкретных фактов современной ему социально-исторической действительности, отдавая предпочтение человеку, который видит сны и забывает, смеется и любит, боится и сомневается, копается в своих переживаниях и страдает от переполняющих его чувств, Дурных мыслей и бездействия, Фрейд, возможно, таким необычным образом пытался переформулировать вопрос о самосознании евреев. Он имел в виду не религию, ассимиляцию или национализм, а некий интеллектуальный проект, переросший рамки привычного. Этот проект в равной мере был далек как от планов лидера социал-демократии Виктора Адлера, так и от планов теоретика сионизма Теодора Герцля, а также от предложений Гейне, Шенберга, всех тех, кто принял чужую веру и тех, кто остался преданным ортодоксальному иудаизму. Он выдвинул гипотезу о существовании внутри человека некого мира, некого убежища, которое каждый носит в себе. Он заговорил о наличии у человека памяти, которая, несмотря на видимую склонность людей к забывчивости, не может потеряться и проходит сквозь поколения. Он одержал верх над политикой и религией, подчинив их законам бессознательного.
Разбитая посуда и «культурная» сексуальная мораль
В 1901 году, почти сразу после возвращения из Рима, Фрейд получил наконец звание профессора. Ему казалось, что все это приснилось ему: он увидел себя рядом с императором, лично поздравившим его, и в окружении политиков, которые так долго заставляли его ждать и страдать. Вот как он описал свое новое качество Флиссу в письме от 11 марта 1902 года: «Итак, я снискал наконец одобрение общественности. На меня сыплются поздравления и букеты, как если бы сексуальность была вдруг признана Его Величеством, значение сновидений подтверждено Советом министров, а необходимость психоаналитической терапии утверждена парламентом большинством в две трети голосов». Это были мечтания, типичные для венца, жившего в эпоху, когда парламент был парализован, когда страну сотрясали многочисленные волнения, причиной которых была ненависть чехов к немецкому языку, когда практически замерли торгово-экономические отношения между Австрией и Венгрией, а в Галиции не прекращались антисемитские выступления.
А сын Якоба, этого «странствующего галицийского еврея», добился наконец общественного признания; он вошел в закрытый для посторонних круг агрессоров-христиан, стал эмансипированным евреем, идущим в ногу со временем, уважаемым профессором одного из самых известных университетов Европы. Восхождение его к этим высотам сопровождалось множеством конфликтов, тревог и страданий. Видимо, не только о своих пациентах, но и о себе самом писал Фрейд в статье «"Культурная" сексуальная мораль и современная нервозность»: «Порой случается, что больной, страдающий нервным расстройством, привлекает внимание врача к тому противоречию между конституцией человека и нормами культуры, которое оказало влияние на развитие его болезни; он выражает это примерно следующими словами: "В нашей семье мы все стали нервнобольными из-за того, что все время хотим стать лучше, чем нам может позволить наше происхождение"». Фрейд добавил к этому: «Страдают от нервных расстройств большей частью дети отцов – уроженцев сельских районов, простых и крепких здоровьем людей, грубоватых, энергичных и решительных, приехавших покорять большой город и позволивших своим детям за очень короткое время подняться на высокий культурный уровень».
Мальчишка, бегавший по моравским лугам и рвавший одуванчики, превратился в образованного венского еврея. Пусть он отошел от той атмосферы, в которой жили старые евреи из Леопольдштадта, пусть он никогда не признавал религиозных верований и навязчивый характер их ритуальных отправлений, но в своей повседневной жизни в интимном семейном кругу Фрейд никогда не отказывался от тех многочисленных удовольствий и наслаждений, которые дарила ему еврейская традиция, а также не был свободен от суеверий. Некоторым числам он придавал магическое значение: число 17, связанное с датой его помолвки с Мартой, было для него счастливым, а 52, похожее на древнееврейское слово «собака», – приносящим несчастье; долгое время он боялся, что умрет именно в этом возрасте. В своей книге «Психопатология повседневной жизни» Фрейд оставил еще одно свидетельство своей приверженности суевериям: «Не так давно у нас дома был период, в течение которого стекло и фарфор бились на каждом шагу, я сам основательно приложил к этому руку. Но эта своего рода психическая эндемия легко поддавалась объяснению: через несколько дней должна была состояться свадьба моей старшей дочери. По этому торжественному случаю обычно разбивают "на счастье" какой-нибудь предмет из стекла или фарфора». Осколки посуды ознаменовали собой сразу две свадьбы: Матильды с Робертом Холличером и Александра Готтхольда Эфраима, младшего брата Фрейда, с Софией Сабиной Шрейбер; оба эти союза были освящены в один и тот же день венским раввином Гельбхаусом.
Если Фрейду непросто было быть сыном, то бремя отцовства – в смысле интеллектуальной преемственности, передачи опыта от учителя ученику – часто становилось для него сплошным разочарованием. После череды «сыновей»: Эдипа, Гамлета, Ганнибала и Иосифа – стала все более и более отчетливо вырисовываться величественная фигура отца-создателя, ведшего за собой свой народ, отца-законодателя – Моисея. Фрейд лелеял надежду сделать христианина Юнга своим «приемным сыном», своим преемником, своим наследным принцем, своим Иисусом Навином; после разрыва с ним он выпустил статью «"Моисей" Микеланджело» о статуе, которой почти десять лет вновь и вновь ездил любоваться в Рим. В этой своей работе Фрейд писал о пророке, обуздавшем свой гнев по отношению к предавшему его народу… Именно в этот период Фрейд впервые начал приводить длинные цитаты из Библии с точными ссылками на нее. Так, в своем «Моисее…» он пересказал историю о Золотом тельце, процитировав ее по переводу Лютера и принеся читателям извинения за это как за анахронизм. Но не просил ли он таким образом, как бы исподволь, прощения у своего отца, ведь тот мог читать Священное Писание в оригинале на древнееврейском языке?
Хотя Фрейд знал и любил библейскую историю, перед лицом ортодоксальности и традиционной еврейской учености ему приходилось признавать «свою необразованность». Что касается сионизма, рожденного подобно психоанализу на венской земле, то Фрейд не стал вступать в ряды его сторонников, хотя относился к этому течению с определенной долей симпатии, не углубляясь, однако, в размышления о его шансах на успех или опасностях, которыми он был чреват. «Я не сионист, во всяком случае, не такой, как Эйнштейн, хотя и являюсь одним из попечителей еврейского университета в Палестине», – доверительно поведал Фрейд одному из своих учеников Джозефу Уэртису. И добавил: «Какое-то время я опасался, что сионизм может послужить поводом для возрождения прежней религиозности, но люди, присоединившиеся к этому течению, заверили меня, что молодые евреи в большинстве своем не религиозны, и это хороший знак…» Когда один из сыновей Фрейда – Мартин – узнал о существовании в университете сионистской организации «Кадима» и вступил в нее, он беспокоился о том, как отреагирует на это его отец: «Он мог не одобрить мое вступление в эту ассоциацию, расценив мой поступок как очередную шалость, которая ничего кроме неприятностей мне не принесет. Но на деле оказалось, что он был искренне рад моему шагу и продемонстрировал это совершенно недвусмысленно; теперь, по прошествии стольких лет, я могу сказать об этом: он стал почетным членом "Кадимы"».
Таинственная и нерушимая верность
Источником жизненных сил и утешения в повседневной жизни Фрейд считал свою еврейскую память, дарящую ему радостное мироощущение. «Будучи евреем, я был свободен от многих предвзятых мнений, которые сковывают мышление других людей; будучи евреем, я был также предрасположен к оппозиции и отказу от согласия с "господствующим большинством"». Но боязнь навлечь на психоанализ обвинения в том, что это «еврейская наука», никогда не покидала Фрейда. Он пытался уберечь свое детище от нападок антисемитов. Избрав своим наследником Юнга, он надеялся таким образом оградить свое творение и психоаналитическое движение от набирающей силу ненависти. Сталкиваясь с мощным сопротивлением психоанализу, Фрейд стал задумываться вот над чем: «В конце концов, у автора есть право задать себе вопрос: а не сыграла ли определенную роль в той антипатии, которую проявляет окружающий мир к психоанализу, его собственная личность и его принадлежность к еврейской нации, чего он никогда не скрывал? Подобные аргументы редко выдвигаются прямым текстом, но мы, к сожалению, стали настолько подозрительными, что не можем избавиться от мысли, что это обстоятельство внесло свою лепту в это дело. Вряд ли можно назвать чистой случайностью то, что первым психоаналитиком стал еврей. Чтобы провозгласить себя сторонником подобной доктрины, необходима была определенная решимость и предрасположенность к тому, чтобы оказаться в изоляции, встретив неприятие оппозиции, – эта участь гораздо привычнее евреям, нежели представителям любых других национальностей». Сам же он, умевший заставить других передавать с помощью слов самые темные и недоступные тайны их души, собственную верность иудаизму мог выразить лишь с помощью безмолвных душевных порывов. Он связывал свое влечение к вере предков с «множеством темных эмоциональных сил: чем сильнее они были, тем труднее их было выразить словами». В 1939 году в предисловии к изданию на иврите своей книги «Тотем и табу» Фрейд писал: «Автор… который не знает священного языка религии своих предков… в ответ на вопрос, что же в нем сохранилось от еврея, мог бы сказать, что очень многое и, возможно, как раз самое главное». В возрасте восьмидесяти лет он вновь с радостью и гордостью подтвердил свою преданность еврейской нации, которая заключалась для него в «чем-то совершенно непонятном и таинственном, не поддающемся никакому анализу». И неспроста в своей работе «Человек по имени Моисей и монотеистическая религия» Фрейд задумывался над тем, каким образом еврейскому народу удалось через века пронести неизменной свою сущность, и задавался вопросом о том, что же так сильно сплачивает его народ. Ответ он видел в том, что народ этот имеет в совместном владении некое «интеллектуальное и эмоциональное достояние».