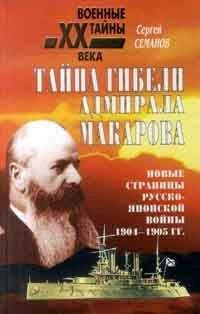Ольга Елисеева - Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века
Много шуму в обществе наделала и отставка П. Я. Чаадаева. Он служил адъютантом при командире Гвардейского корпуса И. В. Васильчикове. Государь ему покровительствовал. Говорили, что в скором времени молодого человека ждут флигель-адъютантские эполеты. После «семеновской истории» Петр Яковлевич взялся отвезти Александру I на конгресс в Троппау донесение о случившемся. Считается, что он надеялся в личном разговоре повлиять на позицию царя, но обнаружил, что мысли Александра I заметно переменились под впечатлением новой волны европейских революций. После беседы с императором Чаадаев демонстративно подал в отставку[224].
Чем не Чацкий? «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Вот где и связь, и разрыв с министрами.
«Горек чужой хлеб»Образ главного героя станет более понятным, если мы определим его положение по отношению к семье Фамусовых. Единственное, что нам известно из самого текста, — Александр Андреевич был сыном старинного друга сенатора и воспитывался в московском доме последнего. Для современного человека сам собой напрашивается вывод, что отец Чацкого, вероятно, умер и Фамусов взял сироту к себе. Но это необязательно должно было случиться именно так. Поскольку Чацкий — сам хозяин своего имения, резонно предположить, что его родители, по крайней мере отец, уже отошли в мир иной. Однако когда Александр Андреевич стал воспитанником, они могли быть еще живы.
В те времена было принято, чтобы небогатая, провинциальная родня, земляки, старые сослуживцы отправляли кого-то из своих многочисленных детей воспитываться в семьи столичных благодетелей. В Москву и Петербург. Там проще было найти педагогов, там имелись высшие учебные заведения, молодые люди обзаводились нужными знакомствами, приискивали место будущей службы, а девушки могли кому-нибудь приглянуться.
Именно так в «Войне и мире» у Ростовых воспитывались Соня и Борис Друбецкой. Так, еще в 1740-х годах в доме президента Камер-коллегии Г. М. Кисловского оказался его двоюродный племянник Г. А. Потемкин. Так, отец П. В. Нащокина, богатый барин и генерал, воспитывал дочерей своих бывших полковых товарищей, содержа для них «мадаму» и гувернанток. Этих девушек дворня называли «взятушками» от слова «взять»[225].
Москва — хлебосольный город — была наполнена такими воспитанниками. Часто случалось, что между ними и детьми хозяев завязывались романтические отношения (Соня и Николай Ростов, Наташа и Борис Друбецкой). Отголоском подобной детской влюбленности явился и роман Чацкого с Софьей. Однако в большинстве случаев представители небогатой провинциальной родни не могли считаться хорошей партией, ровней своим столичным благодетелям. Их положение в новой семье было приниженным, даже если милостивцы ничем не отличали воспитанников от собственных детей. Молодые люди «с благородными чувствами» тяжело переносили зависимость.
Пушкин дважды обратился к такому типу. Осенью 1829 года в отрывке «Роман в письмах» он вывел героиню Лизу: «Ты, конечно, милая Сашинька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объясниться во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня на ровне с своею племянницею. Но в ее доме я все же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня. Неужто предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, все казалось мне неуважением. Словом, я была создание пренесчастное и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, demoiselles de compagnie (компаньонок — О. Е.) и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца».
Любопытно, что Лиза отрицала в себе как раз те качества: «зависть» и «детское малодушие», — которые обнаруживает все письмо. Даже состоятельные девушки, попав на воспитание к родным, могли чувствовать себя уязвленными. Так, Е. Р. Дашкова, потеряв мать, жила вместе с сестрами в доме дяди, елизаветинского канцлера М. И. Воронцова, поскольку их родной отец «был молод, любил жизнь», то есть детьми не занимался. Маленькой Екатерине казалось, что родные на самом деле равнодушны к ней, несмотря на внешние проявления заботы, что искренней любви в них нет. Беспрерывное ночное чтение стало прибежищем для развивавшегося честолюбия. Девушку осаждали вопросами, не происходит ли ее болезненный вид от сердечной тайны: «Я не дала на них искреннего ответа, тем более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего, что было мне доступно, — может быть, то, что я сказала бы, было бы принято за упрек»[226].
С неподдельной досадой, как Лиза жемчуг, будущая княгиня упоминала «платья из одного куска материи», которые шились для нее и кузины Анны, дочери хозяина дома, и которые должны были сделать их одинаковыми. Не тут-то было: «трудно отыскать натуры более разные». Не походить на Анну Михайловну, вероятно, значило для Екатерины Романовны утвердить собственную личность. Детство в чужом доме наложило на Дашкову неизгладимый отпечаток, и она в течение всей жизни проявляла много черт «несносной причудницы».
Корреспондентка Лизы из «Романа в письмах» была удивлена и выговорила подруге за «раздражительность»: «Как можешь ты сравнивать себя с воспитанницами и demoiselles de compagnie? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство». Но прошлые заслуги с течением лет переставали приниматься в расчет обеими сторонами скрытого конфликта: воспитанниками и их благодетелями.
Такую ситуацию Толстой нарисовал в «Войне и мире» применительно к Борису Друбецкому. «Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну..
— Послушайте, князь, — сказала она, — я… никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь, я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына…
Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтобы он не исчез. Князь Василий знал это, и, раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако… что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу… Это последнее соображение поколебало его».
С точки зрения старинной морали патриархальных барских семейств, где не считали своих и чужих детей — лишь бы хватило места за столом, — Лизе из «Романа в письмах» стоило сказать «спасибо» и жить спокойно в теплом мирке родства и свойства. Но новая эпоха внесла в него ощущение неуюта. Чувство благодарности стало тяжелым, почти непереносимым для гордых сердец. И им казалось легче не видеться с благодетелями, чем отвечать новым добром на старое. Так, Друбецкой, поднявшись до положения адъютанта Беннигсена, отказал Николаю Ростову, специально приехавшему к нему в Тильзит просить за капитана Денисова. Хуже того — сама встреча с сыном вчерашних покровителей вызвала досаду Бориса.
Характер Лизы из «Романа в письмах» Пушкин в 1833 году передал Лизавете Ивановне в «Пиковой даме», даже некоторые обороты речи при их описании похожи. «Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи?.. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай, и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы, и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках, и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал; на балах она танцовала только тогда, как не доставало vis-a-vis, и дамы брали ее под руку всякой раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение, и глядела кругом себя, — с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались».