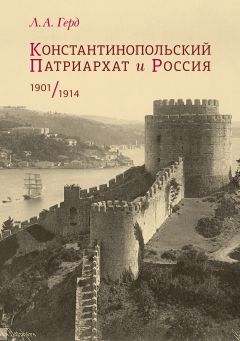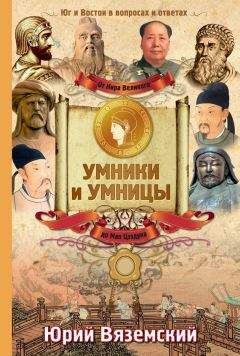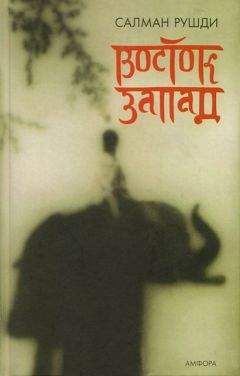Герд Кёнен - Между страхом и восхищением: «Российский комплекс» в сознании немцев, 1900-1945
Газета «Форвертс» сравнивала создание Совета народных комиссаров в России с шагами, направленными на создание поддерживаемого парламентом правительства в Германии, и писала: «8 ноября принесло Германии первое парламентское, а России — первое пролетарское правительство. Новое германское правительство немыслимо без германской социал-демократической тактики, как и новое российское правительство обязано своим возникновением большевистским методам. Здесь — постепенное продвижение вперед, там — дерзкий скачок в кресла власти». Тактические различия между российской и германской социал-демократией следует, очевидно, «относить к неизбежным последствиям развития событий»{320}. Иными словами: вероятно, для России вполне правильным решением в данной ситуации являлось установление диктатуры «максималистов». «Максималистское правительство наводит порядок», — сообщила «Форвертс» 5 декабря. А через несколько дней Ленин был подробнее представлен читателям в биографическом очерке, заканчивавшемся словами: «В подобном характере нуждается теперь рабочий класс, если он желает, чтобы его исторические требования были выполнены»{321}.
Другое, часто встречавшееся оправдание захвата власти большевиками в систематически разработанном виде приводится в листовке «Россия — больной человек» политэконома и «катедер-социалиста» Люйо Брентано{322}. В ней Октябрьская революция предстает прежде всего как народное восстание, направленное против распродажи России англо-американскому капиталу, который в период Временного правительства для компенсации российских долгов получал в концессию целые области, равные по размеру «примерно величине Европейской России»{323}. Декреты большевиков «одним Ударом обесценили все залоги, вырванные друзьями-вымогателями у русского народа, когда он оказался в нужде»{324}. Это равносильно «социальному перевороту, по глубине далеко превзошедшему все перевороты, о которых повествует история»{325}. Хотя, по словам Брентано, все это принесет с собой разрушение собственного российского народного хозяйства, тем не менее и после свержения «максималистов» (Брентано, как и многие другие, считал это вопросом дней или недель) ни одно правительство в будущем «не отважится снова заковать российский народ в цепи, которые наложил на него иностранный капитал, овладев его природными богатствами»{326}.
Перемирие как упущенный момент
Начало переговоров о перемирии после того, как прозвучал неслыханный призыв петроградского советского правительства ко всеобщему миру, дало Германской империи, балансировавшей на острие ножа, колоссальное преимущество в мировом конфликте, и лидеры большевиков, конечно, это понимали. Они не только смирились с этим, но и обострили ситуацию односторонним отказом от всех союзнических обязательств, отказом от военных и довоенных долгов России, а также публикацией «секретного соглашения» о целях союзников в войне, что весьма усилило убедительность германской версии причин мировой войны.
Тут открывались весьма широкие перспективы. Большевики явно не побоялись бы, а, напротив, даже предпочли бы закрепить свою сомнительную власть внутри страны в рамках обширной, но в силу обстоятельств временной договоренности с Германским рейхом. Во всяком случае Зиновьев в середине февраля 1918 г. заявил в ходе полемики в ЦК: «Если говорить ретроспективно, то ясно, что надо было заключать мир в ноябре. (…) Стачки в Вене и Берлине нас слишком очаровали, и мы упустили момент»{327}.
Парвус-Гельфанд, который еще летом 1917 г. не исключал в отношении республиканской России Керенского чисто военного решения и обширной германской оккупации, в новом меморандуме от 18 ноября (в период его тесных связей со стокгольмским заграничным представительством большевиков) решительно выступил за принятие предложения большевистских народных комиссаров о мире. Это, по его мнению, повлекло бы за собой непременный «взрыв Антанты» в результате падения боеспособности французов и итальянцев и после сепаратного мира привело бы к тесной экономической кооперации с Советской Россией. Эта кооперация, в свою очередь, сделала бы центральноевропейские страны достаточно сильными, «чтобы противостоять Англии и Америке, в том числе и в возможной экономической войне»{328}.
Германское правительство и все еще действовавшее самовластно военное командование, однако, не были готовы воспользоваться благоприятным моментом. Людендорф твердил на всех углах: «Российская революция для нас не случайная удача, она явилась естественным и неизбежным следствием наших военных действий». Не меньше ограниченности и самодовольства демонстрировал новый статс-секретарь Министерства иностранных дел Кюльман в своем письменно зафиксированном докладе у кайзера 3 декабря, который читается как краткое обобщение германской политики революционизирования Востока:
«Разрушение Антанты и, как следствие, образование новых, благоприятных для нас политических комбинаций является важнейшей целью дипломатической войны. Российское звено стало слабейшим во вражеской цепи, а посему следует постепенно разомкнуть его и по возможности отцепить. На эту цель была направлена деструктивная работа, которую мы предприняли за линией фронта в России, в первую очередь в форме поощрения сепаратистских тенденций и поддержки большевиков. Лишь средства, которые постоянно текли с нашей стороны к большевикам по различным каналам и под меняющимися этикетками, позволили им создать их главный печатный орган газету “Правда” и существенно расширить первоначально узкую базу их партии. Большевики пришли теперь к власти; пока еще трудно сказать, сколь долго они у власти удержатся. Для укрепления их собственного положения им необходим мир; с другой стороны, и нам крайне выгодно использовать их, вероятно, недолгое правление, чтобы сначала добиться перемирия, а затем по возможности и мира. Заключение сепаратного мира означало бы осуществление желанной цели войны, разрыв отношений России со своими союзниками. От напряженности, которая не может не возникнуть в результате этого разрыва, будут зависеть потребность России в тесной связи с Германией и ее будущее отношение к нам».
Итак, уверял Кюльман, именно временный режим большевиков будет искать помощи у Германии. Следует и дальше идти навстречу российскому советскому правительству, «предоставляя крупный заем в обмен на соответствующие задатки в виде зерна, сырья и т. д.», и особенно помогать в «установлении порядка и восстановлении железнодорожного транспорта», правда, при участии смешанной «управляемой нами комиссии[68], которая должна будет контролировать весь товарообмен. При всем том, полагал Кюльман, необходимо по возможности оставить в стороне правительство в Вене{329}.
Доклад по сути был лишь ведомственной реакцией на директиву кайзера от 29 ноября, которая со всей серьезностью требовала «в случае, если в обозримый период времени дело дойдет до мирных переговоров с Россией, все же попытаться выяснить, не сможем ли мы вступить с Россией в своего рода союзнические или дружественные отношения»{330}. Союз с Советской Россией по предложению кайзера! Вот это да!
«Ясность» на Востоке, война на Западе
Проблема состояла в том, что все эти планы и проекты не содержали никакого представления о конечной цели, а возникали лишь как реакция на ход войны на Западе. Людендорф сразу после Октябрьской революции принял стратегическое решение добиться перелома весной 1918 г. с помощью большого наступления во Франции до прибытия американского подкрепления. Для этого ему нужны были на Востоке «ясные отношения… и быстрые действия»{331}. Продолжительные переговоры о мире с советским правительством не годились. Он желал немедленной оккупации прибалтийских областей и аннексии «польской пограничной полосы», сепаратных переговоров с украинцами и четкого диктата по отношению к большевикам, которых он считал марионетками, купленными на короткий переходный период.
Из позднейших размышлений Людендорфа о «ведении войны и политике» становится ясно, что это решение диктовалось давлением внутренних и внешних обстоятельств. Руководству Германского рейха приходилось ставить на карту всё, поскольку только перспектива быстрой победы смогла бы еще поддержать неустойчивый союз, поднять «подавленный дух народа» на родине и воспрепятствовать «упадку военной доблести» в германских войсках. Да и драматическое положение экономики уже не допускало, по его мнению, «выжидательных методов в ведении войны». В данной ситуации «недостающее продовольствие» для армии можно было бы получить «лишь на Украине». А для желательного полного «захвата России» не хватало, к сожалению, «сильной администрации из бывших царских элементов». Таково лаконичное описание ситуации при принятии решения зимой 1917–1918 гг. сточки зрения неудавшегося диктатора{332}.