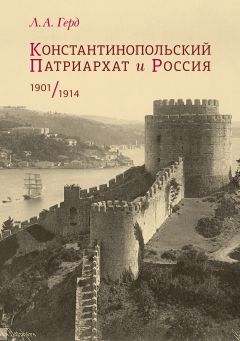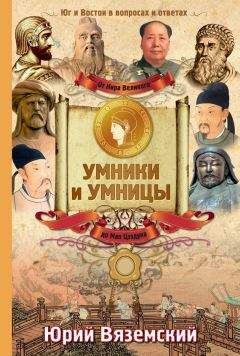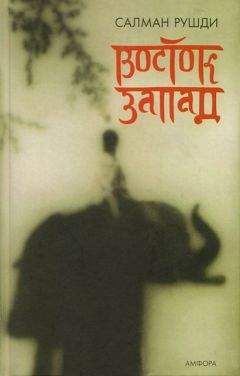Герд Кёнен - Между страхом и восхищением: «Российский комплекс» в сознании немцев, 1900-1945
Мавр и его дело
В мае сразу по прибытии Майер был представлен его знакомым Нассе также Карлу Мору[66] — и из тона, в каком оба разговаривали друг с другом, заключил, «что они наверняка раньше вместе работали»{309}. Между тем известно, что состоятельный швейцарский социал-демократ Карл Моор, который лично знал Ленина с 1913 г. и не раз содействовал ему при его переезде в Швейцарию в 1914 г. (поручился за Ленина перед властями, помог ему в предоставлении залога, а также нашел квартиру для его близкой знакомой Инессы Арманд), сыграл под кличкой «Байер» собственную и весьма многостороннюю роль в структуре германо-большевистских отношений в 1917–1918 гг. и после окончания войны.
Моор родился в 1852 г., он был внебрачным сыном офицера-дворянина немецко-австрийского происхождения и швейцарки. Его социалистические убеждения носили своеобразный характер и отличались страстным неприятием буржуазно-капиталистических западных держав. Отчет Моора о стокгольмской конференции весной 1917 г., адресованный венской придворной бюрократии, связь с которой он поддерживал так же, как и с берлинским Министерством иностранных дел, можно назвать почти трагикомическим в тех местах, где он эмоционально ратует за братание рабочих, которое «стремятся сорвать империалистические правительства и общественные круги Англии и Франции». За всем этим, писал он, стоит «смертельный ужас империалистических поджигателей войны во Франции и Англии, что международный пролетариат, сегодня разделенный и расколотый, все еще приносимый в жертву идолу капитализма ради его интересов, сможет снова найти общий язык в своих рядах»{310}.
В августе 1917 г. Моор — через Н. А. Семашко (будущего наркома здравоохранения) — предложил 230 тыс. марок (деньги, полученные якобы частным образом по наследству) стокгольмскому «заграничному представительству» большевиков для поддержки их международной пропаганды. Ленин из своей конспиративной квартиры в Финляндии, где он скрывался от Временного правительства, ответил подчеркнуто сурово: «Но что за человек Моор? Вполне ли и абсолютно ли доказано, что он честный человек? что у него никогда и не было и нет ни прямого ни косвенного снюхивания с немецкими социал-империалистами? Если правда, что Моор в Стокгольме, и если Вы знакомы с ним, то я очень и очень просил бы, убедительно просил бы, настойчиво просил бы принять все меры для строжайшей и документальнейшей проверки этого»{311}.
В действительности это следовало понимать только как настоятельное требование обеспечить отсутствие всяких компрометирующих «документов» при переводе денег. Во всяком случае, согласно опубликованным с тех пор документам Центрального комитета КПСС, эти почти четверть миллиона в конце лета 1917 г. попали к большевикам и, видимо, послужили для финансирования выпускавшихся в Стокгольме изданий, таких, как «Корреспонденц-Правда» и еженедельник «Боте дер руссишен революцион»{312}. Так или иначе, по-видимому, в эту солидную субсидию действительно влился личный капитал Моора. И позднее московский пенсионер Моор точно датировал свою личную финансовую ссуду большевикам, указал точную сумму и потребовал ее возврата[67].
Установлено, что Моор (он же «Байер») был тем человеком, который 15 ноября, всего за несколько дней до захвата власти большевиками, переслал в Берн, Ромбергу, призыв о помощи, полученный от Воровского: «Выполните, пожалуйста, немедленно ваше обещание. Основываясь на нем, мы связали себя обязательствами, потому что к нам предъявляются большие требования»{313}. На следующий день Ромберг телеграфировал: «Запрошенная финансовая помощь отправляется по надежным каналам наверх». А 28 ноября получил из Берлина еще одно указание: «…правительство в Петрограде терпит огромные финансовые затруднения. Поэтому чрезвычайно желательно, чтобы им выслали деньги»{314}. Затем в начале декабря были предложены (через Рицлера) и, очевидно, приняты 15 млн. из последней субсидии. С их помощью была проложена дорога к Брестскому перемирию.
Германская подрывная пропаганда
Параллельное действие большевистской и германской пропаганды среди солдат в окопах можно весьма наглядно реконструировать по ежедневным отчетам политического отдела IIIb Верховного командования «Ост» о ситуации на различных участках фронта на исходе лета и осенью 1917 года.
Возникает картина многостороннего, почти интимного общения между остатками обеих армий через линию фронта. Бывало, «солдаты и граждане свободной русской революционной армии» обращались под Барановичами с письмом к «товарищам монархического войска» и указывали им «в обходительной форме на ужасы войны и на вину монархов» с просьбой «позаботиться о скорейшем окончании войны»{315}. Но чаще германские офицеры-пропагандисты занимались обработкой солдат противника и констатировали: «Наши газеты принимаются с огромной благодарностью»{316}, — хотя бы из-за хронического недостатка информации и развлечений в русских окопах. Нарушая запреты, группы солдат и унтер-офицеров приходили в немецкие окопы и охотно рассказывали о невыполнении приказов открывать огонь, несмотря на частые угрозы физической расправы или расстрела со стороны собственных офицеров и боеспособных частей. Материальную связь между фронтами обеспечивала торговля бритвенными приборами, мылом, презервативами, часами или едой, сознательно поощрявшаяся германским начальством и — особенно в период перемирия — достигавшая значительных масштабов.
В отчетах от 9 ноября 1917 г., через день после большевистского переворота в Петрограде, говорится: «Насколько до сих пор можно понять, российские войска на фронте… еще не знают о событиях в стране. Наша пропаганда действует согласно приказу». 11 ноября с удовлетворением констатируется: «Борьба Керенского — Ленина в разгаре. Армейские комитеты и высокие чины в большинстве своем за Временное правительство. Войскам в отдельных частях строго запрещают проводить митинги; в большинстве случаев они узнавали о перевороте благодаря нашей пропаганде и с восторгом приветствовали его, с уверенностью ожидая заключения мира»{317}.
Переговоры о перемирии, которые начались в конце ноября на отдельных участках фронта, немедленно давали результаты. На больших пространствах они носили характер односторонней капитуляции. В «Иллюстрирте кригскроникдес Дахайм» («Иллюстрированной военной хронике журнала “Родина”») можно было прочитать: «Это случилось около 11 часов утра. Телефонист выскочил из своей будки и крикнул нам: “Мир! Боевое донесение: на российском плацдарме появились три белых флага. Русский оркестр играет, поднявшись на бруствер, русские офицеры подошли к нашему плацдарму, намереваясь вести переговоры о перемирии!” (…) И действительно: на всех опорных пунктах вывешены белые флаги; на взорванном мосту германские и российские офицеры ведут переговоры… “Мир! Мир!” Из блиндажей слышны веселые песни. Но среди них все громче и громче доносится отчаянно-упрямая песня, будто вернулись августовские дни 1914 г.: “Франция, ах, Франция, что же станет с тобою…”»{318}
Такой поворот в отчете (который, разумеется, обязан был морально поддерживать солдатскую стойкость) все же позволяет почувствовать неоднозначность ситуации.
Ленин как воплощение надежды
Однозначно положительную оценку захвата власти большевиками, почти без признаков озабоченности, содержали не только немецкие фронтовые донесения. Практически так же смотрела надело и рядовая общественность. Официозная газета «Норддойче альгемайне цайтунг», казалось, стремилась поупражняться в языке новой эпохи, сообщая под заголовком «Хаос в Петербурге»: «Достижение цели, ради которой боролся народ, а именно предложение немедленно заключить мир, лишить помещиков прав на землю, учредить надзор рабочих над производством и сформировать правительство советов рабочих и солдатских депутатов, обеспечено»{319}.
Газета «Форвертс» сравнивала создание Совета народных комиссаров в России с шагами, направленными на создание поддерживаемого парламентом правительства в Германии, и писала: «8 ноября принесло Германии первое парламентское, а России — первое пролетарское правительство. Новое германское правительство немыслимо без германской социал-демократической тактики, как и новое российское правительство обязано своим возникновением большевистским методам. Здесь — постепенное продвижение вперед, там — дерзкий скачок в кресла власти». Тактические различия между российской и германской социал-демократией следует, очевидно, «относить к неизбежным последствиям развития событий»{320}. Иными словами: вероятно, для России вполне правильным решением в данной ситуации являлось установление диктатуры «максималистов». «Максималистское правительство наводит порядок», — сообщила «Форвертс» 5 декабря. А через несколько дней Ленин был подробнее представлен читателям в биографическом очерке, заканчивавшемся словами: «В подобном характере нуждается теперь рабочий класс, если он желает, чтобы его исторические требования были выполнены»{321}.