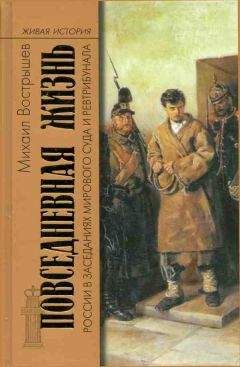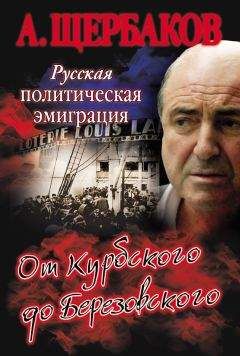Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
В Чехии, в поселке с неблагозвучным названием Вшеноры, приехавший из Праги о. Сергий Булгаков крестил сына Цветаевой Георгия, по-домашнему Мура. Крестины совпали с седьмой годовщиной рукоположения о. Сергия. Был ясный июньский день, цвел жасмин. Служба шла долго — с молитвами, с заклинаниями бесов. На следующий день Цветаева написала своей парижской приятельнице Ольге Колбасиной-Черновой, у которой найдет приют в первые месяцы после переезда во Францию: все время чувствовала страшный напор бесов, не крестины, а ратоборство. Но все равно «в одном месте, когда особенно изгоняли, навек запрещали… у меня выкатились две огромные слезы».
Муру судьба отмерила очень краткий срок. Он погиб на фронте девятнадцати лет. Родителей уже не было в живых, сестру по приговору Особого совещания отправили в воркутинские лагеря.
Отношения Цветаевой с православными кругами были напряженными, преобладала неприязнь — с обеих сторон. О писаниях о. Сергия, печатавшегося в пражском журнале «Ковчег», где сотрудничала и Цветаева, она отзывалась насмешливо. С Бердяевым старалась не встречаться, хотя одно время они жили по соседству, в парижском пригороде Кламар. Еще в 1923 году она призналась Гулю, что Бердяев с давних пор вызывает у нее отвращение.
Как-то затеяли сбор пожертвований, чтобы из голодной Москвы помочь совсем погибающему в Крыму Волошину, и Бердяев сказал ей: «У вас самой ничего нет, неразумно давать». Такого Цветаева с ее мгновенной, безоглядной отзывчивостью, когда друзья попадали в беду, никому не прощала. Из письма Волошину, 1921 год: Бердяев — в числе торговцев от литературы, когда они «открывают рот, чтобы произнести слово „Бог“, у меня всю внутренность сводит от скуки, не потому, что „Бог“, а потому, что мертвый Бог, не растущий, не воинствующий…» И в письме Гулю несколько лет спустя она оценила философию Бердяева более чем презрительно: «Словесничество. — В ушах навязло. Слова „богоносец“ не выношу, скриплю. „Русского Бога“ топлю в Днепре, как идола».
Дело заключалось не только в бердяевском «словесничестве». Сказать, что Цветаева была нерелигиозна, означало бы сильное упрощение, однако Церковь всегда вызывала у нее внутреннюю неприязнь. Немецкому поэту Райнеру Марии Рильке, которого она считала больше чем явлением искусства — уникальным феноменом природы, Цветаева пишет в 1926 году: «Священник — преграда между мной и Богом (богами)». И своей чешской подруге три года спустя признается, что в священнике неизменно видит «превышение права: кто тебя поставил надо мною?… Он — посредник, а я — непосредственна. Мне нужны такие, как Р/ильке/, как Вы, как Пастернак: в Боге, но как-то — без Бога, без этого слова — Бог, без этой стены (между мной и человеком) — Бог. Без Бога по образу и подобию (иного мы не знаем)».
Единственным из церковной среды, к кому Цветаева была дружески расположена, оказался Федотов. Услышав в чьем-то чтении «Крысолова», он сразу оценил ее талант и потом старался поддерживать, как мог. По его настоянию в «Новом граде» была напечатана одна из самых ярких цветаевских статей «Эпос и лирика современной России», хотя в ней много — и уж никак не осудительно — говорилось о Маяковском, неприемлемом для эмиграции. Статью дали в двух номерах за 1932 год.
А чуть раньше в пражской «Воле России», в самом последнем ее номере, появилась другая важная статья, манифест Цветаевой — «Поэт и время». Там были резкие, пристрастные оценки поэзии Рассеянья, в которой преобладает реставрация, а не творчество, потому что сам ее язык доносит мирочувствование поколения, жившего тридцать лет назад («здешнему в искусстве современно прошлое»), и был жестко заявленный тезис: «Всякая современность в настоящем — сосуществование времен, концы и начала, живой узел…». Цветаева нападала, провоцируя ответные выпады, — к ним она давно привыкла. Своими убеждениями она не поступалась никогда. Как и этим, высказанным в статье «Поэт и время» почти афористически: «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы. На поэте — на всех людях искусства — но на поэте больше всего — особая печать неуюта, по которой даже в его собственном доме — узнаешь поэта. Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо».
Четырнадцать парижских лет стали для Цветаевой порой неуюта не только в метафизическом, а в самом прямом и буквальном смысле.
Она приехала в Париж 1 ноября 1925 года, с девятимесячным Муром и тринадцатилетней дочерью Ариадной (Алей), приехала, как ей казалось, ненадолго — только с целью устроить свой поэтический вечер и чуть поправить совсем скудный семейный бюджет. Чешское правительство выплачивало писателям и ученым из России стипендию — небольшую, но все-таки позволявшую как-то жить; по установленным правилам в стипендии отказывали тем, кто покидал Чехию больше чем на три месяца. В Праге оставался ее муж Сергей Эфрон, с которым на четыре года Цветаеву разлучила Гражданская война. В Праге были друзья, знакомые кафе и любимые места, особенно статуя рыцаря под Карловым мостом: «мальчика, сторожащего реку. Для меня он — символ верности (себе! не другим)». О нем еще в Чехии она написала стихотворение:
— «С рокового мосту
Вниз — отважься!»
Я тебе по росту,
Рыцарь пражский.
Сласть ли, грусть ли
В ней — тебе видней,
Рыцарь, стерегущий
Реку — дней.
И в письмах Анне Тесковой, писательнице и переводчице, которая для Цветаевой тоже была символом верности, она потом столько раз вспомнит этого «караульного на посту разлук», пражское неяркое солнце, синеву или пологие холмы вокруг Вшенор и Мокропсов, двух невзрачных пригородных местечек, с которых начиналась ее жизнь после России. «Я очень упорна в любви, — пишет она Тесковой, прожив в Париже уже три с лишним года, — Чехию полюбила сразу и навсегда. Мне и те деревья больше нравятся».
Обстоятельства сложились так, что вернуться Цветаевой предстояло не в Чехию, о которой она мечтала, а в Советский Союз. Были планы приезда в Прагу для выступлений, и они, казалось, вот-вот осуществятся, но каждый раз что-то мешало в последний момент. Судьба не подарила ей счастья увидеть пражского рыцаря хотя бы еще один раз.
Париж Цветаева не приняла сразу и категорически. Всего через два месяца после приезда она пишет редактору «Ковчега»: «Я живу не в Париже, а в таком-то квартале. Знаю метро, с которым справляюсь плохо, знаю автомобили, с которыми не справляюсь совсем… знаю магазины, в которых теряюсь. И еще отчасти русскую колонию». Дальше эта нота в ее письмах да и в стихах будет только усиливаться. Прожив на берегах Сены семь лет, Цветаева пишет Тесковой, что «Франции, несмотря на всё (этому всему — знаю цену!), я всё-таки как-то не полюбила, может быть потому что мне ее — душевно — нечем помянуть. Настоящих друзей у меня здесь не было, были кратковременные дружбы, не выжившие… За семь лет Франции я бесконечно остыла сердцем, иногда мне хочется — как той французской принцессе перед смертью — сказать: Rien ne m’est plus. Plus ne m’est rien (Мне больше ничего не остается. Больше мне не остается ничего)». Это слова королевы Марии Антуанетты в день ее казни.
А перед самым отъездом в СССР Цветаева напишет свое последнее парижское стихотворение, назвав его «Douce France» — «Нежная Франция»:
Мне Францией — нету Нежнее страны —
На долгую память Два перла даны.
Они на ресницах Недвижно стоят.
Дано мне отплытье Марии Стюарт.
Из Франции, которая ее выталкивала, королева Шотландии отправилась в английскую тюрьму и затем на эшафот.
* * *Рю Руве, где жила Колбасина-Чернова, в прошлом жена министра Временного правительства, расположена на северо-западной окраине города, поблизости от скотобоен. На Цветаеву она произвела ужасное впечатление: «Гнилой канал, неба не видно из-за труб, сплошная копоть и сплошной грохот (грузовые автомобили). Гулять негде — ни кустика». К тому же в трех комнатах — четвертый этаж без лифта — было тесно: у хозяйки росли дочери, гостья прибыла с детьми. Но письменный стол все-таки имелся. «Крысолова», свою самую большую поэму, Цветаева заканчивала за этим столом.
Журнал с поэмой или ее список попал — на один день — Пастернаку, который сразу почувствовал, что в «Крысолове» есть «несколько новых, особенных по поэтическому значению, магических мест». Он написал Цветаевой: «Возвратившись к ним, я должен буду призадуматься над определеньем неуловимой их новизны, новизны родовой, для которой слова на языке, может быть, не будет и придется искать». Пастернак услышал в поэме какую-то никогда прежде не звучавшую, «дикую» музыку, которая завораживает больше, чем самая стройная гармония, и первым постиг тайну цветаевского стиха: в нем «ритм, разбушевываясь… начинает формировать лирическое суждение». Слово открывает множество скрытых смыслов, которые не обнаружила бы в нем даже очень продуманная концепция, если бы ею определялось построение сюжета. У Цветаевой сюжет возникает непосредственно из оттенков слова и интонации, вот отчего он так непредсказуем, хотя легенде, на которую он опирается, без малого семь веков.