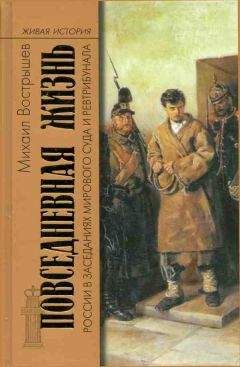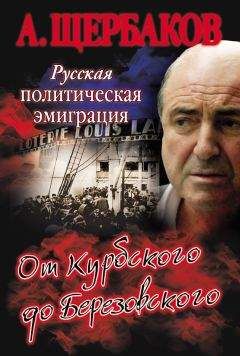Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Мемуары Татьяны Манухиной, написанные через десять лет после войны, бесценны, они сохранили живой облик русской мученицы, донеся хронику ее трудов и дней. Но, видимо, было между ними двумя одно существенное расхождение. Манухина выступала и как литератор, взяв себе мужской псевдоним — Таманин. Эта фамилия стояла на титуле ее романа «Отечество», который обратил на себя внимание Федотова. Верней, не столько роман, сколько содержавшееся в нем утверждение, «даже почти уверенность», что в революцию погиб не один лишь прежний строй, «а страна, русская нация». И теперь приходится отринуть родину, чтобы остаться с Богом.
Согласиться с этим Федотов не мог, как не могла этого принять и монахиня Мария. Ей близки были не раз повторенные Федотовым сожаления, что в православной среде «не нашлось пророческого обличающего голоса, который показал бы нашу вину в нашей гибели», и его обличения «оцерковленного зла», которое хуже антихристианства: на страницах «Нового града», на заседаниях «Круга» об этом, касаясь деятельности Антония и его окружения, заговаривали постоянно. Однако ни разу не допустила она даже мысли об отступничестве от России. Всем существом мать Мария осталась привержена русским духовным заветам, в ее замыслах и поступках получившим невымученное, органичное осуществление.
В середине 30-х годов вместе с Бердяевым она организовала братство «Православное дело». Оно было больше чем центром социальной помощи отчаявшимся и опустившимся. Мать Мария задумывала его как дом, как очаг надежды, дарующей спасение в очень тяжелую пору. Она и раньше не раз ездила по городам и поселкам, где оказалось много русских беженцев, которые стали чернорабочими, шахтерами, докерами. Шла в зловонные бараки, пыталась говорить о Боге с этими угнетенными, озлобившимися людьми. А услышав в ответ: «Вы бы лучше нам пол вымыли…» — брала в руки швабру и ведро. Потом кто-то догонял ее по пути на станцию и признавался, что, если бы не она, совершенно точно наложил бы на себя руки.
На собраниях «Круга» ее запомнили непременно что-то делающей, пока другие вели философскую дискуссию: то чинит носки, то штопает заношенную рубаху. Решение, став монахиней, остаться в миру было ею принято оттого, что она не могла довольствоваться одним молитвенным правилом, жить без деятельности. Денег для филантропии не было, однако каким-то образом удавалось выкручиваться в безвыходных положениях. Приют в особнячке на авеню де Сакс с густым садиком и маленькой церковкой уцелел, вопреки всем трудностям и даже наперекор раздорам среди его обитательниц. А потом было организовано большое общежитие на рю де Лурмель 77 — о нем и о Покровской церкви, созданной стараниями Матери, знал весь русский Париж.
Это была улица на окраине, кругом — гаражи, грязные бистро, заборы, пансионаты для иностранных рабочих. На рю де Лурмель не отказывали никому. Были тут люди, которых Мать вызволила из психиатрических лечебниц, были одинокие и немощные, неспособные вносить даже установленную очень малую плату. И всех надо было отогреть, накормить, утешить.
С утра начиналась кухонная возня — огромные котлы, где что-то кипело, горы картофельной шелухи. В полдень следовал обязательный визит на главный парижский рынок — в знаменитое по роману Золя «чрево Парижа», где хорошо знали эту странную женщину в монашеском платье и с мешком в руках. В мешок сваливались непроданные, начавшие подгнивать овощи, обрезки мяса, потроха, несвежая рыба. Велосипеда не было, как и тачки, мешок ей приходилось тащить на плечах, а дорога предстояла неблизкая. И никто ни разу не услышал от нее жалоб.
«Надо уметь ходить по водам», как апостол Петр, — любила она повторять, когда у других опускались руки. Надо уметь стучаться во все двери, если это нужно погибающим, надо взывать к совести тех, у кого она еще сохранилась, и совсем отказаться от всего своего. На рю де Лурмель у Матери даже не было собственной комнаты, она спала за кочегаркой и радовалась этому — тепло. Прихожане Покровской церкви постоянно видели ее то с малярной кистью, в перепачканном известкой платье, то в подоткнутой юбке, чтобы удобнее было убирать на лестницах, то вышивающей гладью иконы и облачения для своего прихода. Из всех русских святых ее особенно привлекали блаженные — иконка Василия украшала алтарь. Так же, как их, ее тянуло к обойденным и отверженным, словно к родным своим братьям.
Кому-то из населявших ее обитель все это не нравилось. Находили, что Мать плохо соблюдает монашеский чин. Нарастал ропот, и вскоре несколько тех, кого она поставила на ноги, ушли, решив создать собственную обитель на какой-то ферме. Это был удар, трудно ею пережитый. Но ничего не изменилось на рю де Лурмель. А Манухина услышала от Матери, что есть у нее одна заветная мечта: снять монашеский костюм, надеть рогожку с дыркой для головы, подпоясаться веревкой. Так сподручнее.
Хотя в действительности она была вовсе не из племени юродивых, и это хорошо знали общавшиеся с нею не один год. После ее гибели Бердяев написал, что в ней, «монахине нового типа», воплотилась «новая душа, по-новому взволнованная», унаследовавшая беспокойство и усложненность эпохи, на которую пришлась ее молодость. Дух Серебряного века продолжал жить и под рубищем. Беспокойство вылилось в иные формы и иной стала усложненность. Однако, если вдуматься, нет строгого разграничительного рубежа между начинающим петербургским поэтом Кузьминой-Караваевой и монахиней Марией, принявшей на свои плечи ответственность за «Православное дело».
Остался неизменным принцип, которому в этой биографии подчинено все, — «единственное, всепоглощающее, христианское призвание», как сказано в статье, написанной в минуту передышки от нескончаемых хлопот о своих подопечных и извлеченной из бумаг Матери сорок лет спустя. Не «духовная гигиена» и не холод аскетизма определены человеку, а лишь «отвержение себя» и способность «все претворить в любовь Христову, принять ее как крест свой». Ведь «в духовной жизни нет случая и нет удачных или неудачных эпох, а есть знаки, которые надо понимать, и пути, по которым надо идти. И мы призваны к великому, потому что мы призваны к великой свободе».
Когда началась война, а особенно во время оккупации, старый, запущенный дом на рю де Лурмель оказался переполнен людьми, которых за его стенами ждали арест и депортация в Германию. В эти страшные дни мать Мария прятала и спасала обреченных, доставала документы для проезда в свободную зону, целые дни проводила в поисках продуктов и вещей для сидевших в Дранси, в Компьене, откуда отправляли на немецкие фабрики смерти. У нее был запретный радиоприемник, она узнавала о новостях с Восточного фронта, то гнетущих, то радостных, заставлявших сиять от счастья. Настоятеля Покровской церкви о. Димитрия Клепинина арестовали, но обещали отпустить, если он прекратит свою помощь евреям, — он, конечно, отказался и вскоре погиб. Через несколько дней была арестована и мать Мария вместе с сыном, семнадцатилетним мальчиком.
Она попала в лагерь Равенсбрюк, один из самых страшных. Осталось свидетельство одной из немногих выживших в этом лагере. Даже там мать Мария продолжала держаться так, словно в ее жизни ничего не переменилось: ободряла павших духом, старалась помочь, насколько могла. Однажды надзирательница, заметив, что две заключенные, вопреки запрету, ведут между собой задушевный разговор, изо всей силы ударила ее ремнем по лицу. Ни один мускул не дрогнул на этом прекрасном лице и разговор продолжался, а удары сыпались градом.
Мать Марию отправили в газовую камеру 31 марта 1945-го, за месяц с небольшим до Победы. В лагере она провела два года. Как будто предчувствуя, какой ей уготован конец, она писала в одном своем стихотворении парижского периода:
О Господи, я не отдам врагу
Не только человека, даже камня.
О имени Твоем я все могу,
О имени Твоем и смерть легка мне.
Глава шестая
«Всякий поэт по существу эмигрант…»
В Чехии, в поселке с неблагозвучным названием Вшеноры, приехавший из Праги о. Сергий Булгаков крестил сына Цветаевой Георгия, по-домашнему Мура. Крестины совпали с седьмой годовщиной рукоположения о. Сергия. Был ясный июньский день, цвел жасмин. Служба шла долго — с молитвами, с заклинаниями бесов. На следующий день Цветаева написала своей парижской приятельнице Ольге Колбасиной-Черновой, у которой найдет приют в первые месяцы после переезда во Францию: все время чувствовала страшный напор бесов, не крестины, а ратоборство. Но все равно «в одном месте, когда особенно изгоняли, навек запрещали… у меня выкатились две огромные слезы».
Муру судьба отмерила очень краткий срок. Он погиб на фронте девятнадцати лет. Родителей уже не было в живых, сестру по приговору Особого совещания отправили в воркутинские лагеря.