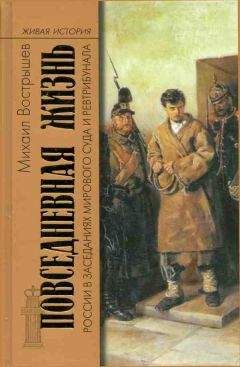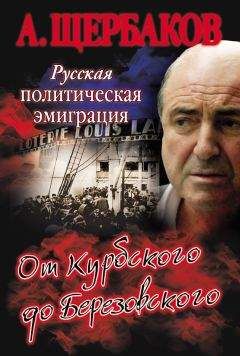Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Евлогий покровительствовал Русскому студенческому христианскому движению, у колыбели которого стояли о. Сергий и Зеньковский, будущий отец Василий. Одного этого начинания было бы довольно, чтобы отвести нападки на Булгакова за то, что он будто бы интересуется лишь тонкостями софиологии (да еще неверно их освещая), когда жизнь требует реального действия, и оно сопрягается с политикой. Надмирным, аполитичным о. Сергий не был никогда. Только он понимал действие по-другому. Мудрее.
На итальянском пароходе, по пути из Крыма во «Второй Рим», в Константинополь, он занес в дневник: «Все пережитое… настолько кошмарно по своей жестокой бессмыслице и вместе с тем так грандиозно, что я сейчас не могу еще ни описать, ни даже до конца осознать. Но это дало последний чекан душе и облегчило до последней возможности неизбежную и — верю — благодетельную экспатриацию. Страшно написать это слово мне, для которого еще два года назад во время всеобщего бегства экспатриация была равна смерти. Но эти годы не прошли бесследно: я страдал и жил, а вместе с тем и прозрел, и еду на Запад не как в страну „буржуазной культуры“ или бывшую страну „святых чудес“, теперь „гниющую“, но как страну еще сохранившейся христианской культуры… „Россия“, гниющая в гробу, извергла меня за ненадобностью, после того как выжгла на мне клеймо раба… Дело России может делаться сейчас, кажется, только на Западе, — и путь в „Третий Рим“, сейчас подобно Китежу скрывшийся под воду, лежит для меня через Рим второй и первый».
Он и на Западе посвятил себя без остатка делу России, которое должно было начаться с ее духовного возрождения, с возвращения к Богу, когда завершилось «буйство неистового хлыста» — Распутина — и когда уйдет в небытие царство «прогрессивного паралитика», как в дневнике о. Сергия именуется Ленин. В Сремских Карловцах пели осанну монархии, время которой прошло навсегда, и, соблюдая ритуалы, в действительности не верили, что религия для кого-то вправду может стать смыслом и стержнем существования. Прихожане парижского храма во имя Сергия Радонежского думали иначе — для них вера означала подвижничество. О. Сергий до своей последней минуты, умирая от рака гортани, хранил верность высшим идеалам и ценностям, ради которых жил, проповедовал, действовал. Его духовная дочь — из самых ему близких — мученически окончила жизнь в нацистском концлагере Равенсбрюк.
* * *Из воспоминаний Яновского: на собраниях Круга и в других местах ему часто встречалась женщина, на которою невозможно было не обратить внимания. Монументальная, румяная, в черной рясе и мужских башмаках — русское бабье лицо под монашеской косынкой! Добрые люди ее подчас жалели именно за эти неизящные сапоги, нечистые руки, за весь аромат добровольной нищеты, капусты, клопов, гнилых досок…
Старые петербуржцы, бывавшие на знаменитой «башне» у Вячеслава Иванова, в цитадели русского декаданса, или на вечерах журнала «Аполлон», едва ли сразу бы узнали в этой старообразной женщине в апостольнике, завязанном на затылке, с четками в руках, юную, прелестную Лизу Пиленко, по первому мужу — Елизавету Кузьмину-Караваеву, талантливую поэтессу, которой Блок посвятил трепетные, нежные стихи. Теперь ее имя было монахиня Мария. Люди из близкого окружения называли ее просто и доверительно-Мать. «Слово самое вмещающее и обнимающее, самое обширное и подробное, и — ничего не изымающее»: определение Цветаевой, которая просила одного своего корреспондента, по возрасту действительно годившегося ей в сыновья, обращаться к ней как к матери.
Блока поразила девушка, которая размышляет все только о «печальном… о концах и началах». Когда она, пятнадцатилетняя, пришла к боготворимому ею поэту, у них был долгий разговор, и Блок убеждал собеседницу, что следует бежать из страшного мира эстетства, высокопарного пустословия, эмоциональной немоты — мир этот охвачен умиранием. Она ответила, что бегство не для нее: ее жребий — созидание. Так она думала и годы спустя, оглядываясь на ту незабываемую встречу. И твердо считала: «Не только свободно создаю я свою жизнь, но и свободно вылепливаю душу свою, ту, которая будет в минуту смерти».
О своей молодости она написала в мемуарном очерке «Последние римляне». Эти несколько страниц говорят о Серебряном веке больше, чем самые тщательные исторические реконструкции. Здесь нет сведения счетов, есть попытка понять, отчего обреченным оказался порядок жизни и самый идеал тех, кто как заповедь повторял строки из знаменитого стихотворения Поля Верлена, которое сделало общепринятым понятие «декаданс»: «Я — римский мир периода упадка». О них, о самой этой эпохе в очерке говорится жестко, категорично: «умирающее время», «старческая все постигшая, охладевшая ко всему мудрость». Отпечаток того времени очень распознаваем в двух небольших поэтических книгах, которые Кузьмина-Караваева выпустила в 10-е годы: в сборниках «Скифские черепки» и «Руфь». Однако, если их читать вдумчиво, откроется, что и тогда, ощущая свою близость к кругу «последних римлян», она ощущала и то, что их разделяет. Она не хотела, не могла уподобиться «консерваторам, уносящим свои светильники в катакомбы», потому что магическое сияние погаснет, если сделать шаг из обители поэзии и культуры в беспощадную жизнь. Зная, что «время наше на исходе» (в книге «Руфь», вышедшей перед самой катастрофой, в 1916-м, есть цикл, так и озаглавленный: «Исход»), она была убеждена, что никому не дано оборвать кровную связь с доставшимся временем, пусть даже это пора «ненужных слов, ненужных дел» — непереносимая для тех, кто, как Блок и как она сама, живет предощущением вплотную приблизившейся трагедии.
Библейская Руфь, собирающая «свой разбросанный сноп», чтобы оставить колосья у порога тех, кто бедствует, для нее стала олицетворением духовного подвига. В свои двадцать с небольшим лет Кузьмина-Караваева думает о том, как трудно, как насущно важно «жить днями, править ремесло размеренных и вечных будней». И десятилетия — какие десятилетия! — спустя она славит это ремесло, особенно незаменимое, когда слишком много таких, кто, «разучившись говорить на земных языках, потеряв тайну земных чувств и желаний», может лишь «именовать холод», сковавший их души.
Существует «круговая порука ремесла, круговая порука человечности»: она стоит «над личными дружбами», над «литературными тщеславиями». Это слова Цветаевой, сказанные по конкретному поводу — в связи с одним аморальным поступком Ал. Толстого и подразумевающие прежде всего писательскую этику. Мать Мария, не оставившая литературу и после пострига, вкладывала в понятие «ремесло», конечно, более широкий смысл — «ремесло» существования, которое окажется достойным жребия не «последних римлян», а скорее первых христиан, принимавших пытку и смерть за свою веру Однако «порука человечности» — это можно было бы отнести и к ней.
С юности она твердо знала, в чем смысл и оправдание ее жизни. Участница гумилевского «Цеха поэтов» и гостья Волошина в Коктебеле, бестужевка, увлеченная радикальной программой эсеров (после февральской революции одно время она была городским головой в Анапе, поблизости от которой прошло ее детство), Кузьмина-Караваева, однако, жила не артистическими, а прежде всего религиозными запросами. Она была первой в России женщиной, получившей (заочно) богословское образование в Петербургской духовной академии. Стихи, написанные в начальную пору, выразили ее кредо: «Нет, я в этой жизни не заплачу — как назначено, так и пойду». Выбор не изменился. Годы спустя мать Мария напишет:
Черный мой венец неизреченный,
Вечного венчания печать —
К самым небесам, над всей вселенной
Надобно торжественно поднять.
Линия ее жизни, рано определившаяся, никуда и никогда не отклонялась. Лирический сюжет книги «Руфь», по сути, повторен и в цикле «Постриг», относящемся к 1932 году, когда с благословения Евлогия она стала монахиней в миру. Вот этот сюжет: поднимаясь «на высоты», человек хранит верность своей главной обязанности обитать не в горних сферах, а «среди мирских равнин», творя «лишь смертные дела». Но он их творит с мыслью о бессмертии, о вечности, в которую мы «только верим», тогда как надлежит в нее заглянуть, чтобы ей приобщиться и «солнцем вечности» наполнить свою каждодневную жизнь.
В эмиграции, которая забросила ее в Константинополь, потом в Белград и Париж, где вместе со своим вторым мужем, казачьим деятелем Д. Скобцовым, она оказалась в 1923-м, этот путь был ею пройден до конца. Не отказавшись от стихов, Кузьмина-Караваева стала писать жития, биографии русских религиозных мыслителей, а свой последний сборник 1937 года издала уже за подписью Монахиня Мария. В этом сборнике было два раздела: «О жизни», «О смерти». Стихи второго раздела несли на себе след недавнего горя. Дочь Гаяна уехала с мужем в Москву, заболела брюшным тифом и умерла. Сподвижница матери Марии Татьяна Манухина присутствовала на панихиде и поразилась стойкости, с которой та переносила свою утрату. Ни рыданий, ни бесслезного оцепенения, ни ужаса безутешности. Мать Мария на коленях простояла всю службу, принимала соболезнования, но никому не позволила притронуться к ране, от которой страдала.