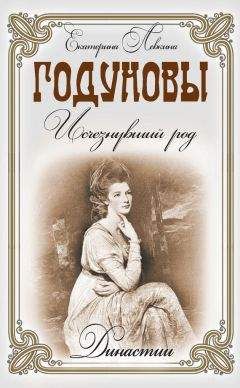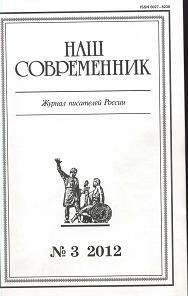Вадим Кожинов - О русском национальном сознании
И не кто другой, а сам Чаадаев дал в своем первом "Философическом письме" ярчайший образец того "беспощадного самосуда", в котором Н.Н.Скатов справедливо увидит одно из ключевых свойств русского национального характера. При этом, кстати сказать, Чаадаев признавал, что "было преувеличение в этом обвинительном акте, предъявленном великому народу",признавал, но отнюдь не раскаивался в совершенном и тут же указывал на тот факт, что почти одновременно с обнародованием его "Философического письма" был поставлен на сцене Малого театра (вслед за Александрийским) гоголевский "Ревизор": "Вспомним, что вскоре после напечатания злополучной статьи...88 на нашей сцене была разыграна новая пьеса. И вот, никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани и, однако, никогда не достигалось более полного успеха".
Беспредельность идеала неразрывно связана с "беспощадностью самосуда". Важно обратить внимание на тот факт, что дело идет об исконном, изначальном свойстве русской литературы, ибо широко распространена точка зрения, согласно которой этот пафос самоосуждения складывается в русской литературе лишь в 1820-1830-х годах. М.М.Бахтин раскрыл беспримерное своеобразие "Слова о полку Игореве" в ряду других эпосов: в центре "Слова" - не победный подвиг и даже не героическая гибель, но трагическое посрамление героя. Игорь посрамлен, хотя он искал "чести и славы" - того же, что искали герои многих древних эпосов; для русского сознания это оказывается недостаточным. Подлинной основой героизма может быть девиз Александра Невского - "душу положить за друга своя", но не стремление, пусть даже самое "высокое", к чести и славе как таковым.
* * *
Однако вернемся к историческим воплощениям той стихии самоотречения, в которой Чаадаев увидел существеннейшую черту отечественного бытия и сознания. Обратимся к отношениям Руси с Византией.
В том мире, с которым соприкасалась Русь в период своего становления, Византия, Восточная Римская империя, была страной наиболее высокой культуры; вернее даже будет сказать, что в Византии, являвшейся непосредственной, прямой наследницей тысячелетнего развития античной культуры, имел место совершенно иной уровень культуры, нежели в остальных странах тогдашней Европы и Передней Азии.
История взаимоотношений Руси с Византией начинается целым периодом войн, в которых Русь одержала немало побед. Но уже в конце Х века, достигнув при Владимире Святославиче наибольшего могущества, Русь совершает беспримерный акт: совершенно добровольно воспринимает византийскую культуру, тем самым как бы признавая ее превосходство, причем это восприятие осознается отнюдь не как слабость, но, напротив, как выражение силы и уверенности в своей самостоятельности.
Несмотря на отдельные позднейшие конфликты, отношение Руси к византийской культуре остается неизменным. Для выяснения характера этих отношений достаточно вдуматься в имя, которым народ Киевской и затем Московской Руси называл Константинополь - Царьград, то есть превосходнейший из городов. И здесь также выражается не "рабское" преклонение перед чужим, но свободное признание очевидного.
Чтобы понять весь глубочайший смысл события, совершившегося в Х веке, необходимо вглядеться в ход становления Западной Европы.
Германские племена начали свою историю с уничтожения античного мира. Правда, в течение следующего тысячелетия они постепенно - все более активно и сознательно - усваивали его культурное наследие. Но они уже имели дело именно с наследием, а не с живым культурным организмом... Наиболее могучий выразитель западноевропейского самосознания - Гегель говорил в своей "Философии истории" (между прочим, в то самое время, когда Чаадаев создавал свои "Философические письма"):
"Германский89 дух есть дух нового мира, цель которого заключается в осуществлении абсолютной истины как бесконечного самоопределения свободы... Принцип духовной свободы... был заложен в... душах германских народов, и на них была возложена задача... свободно творить в мире, исходя из субъективного самосознания... Германцы начали с того, что... покорили одряхлевшие и сгнившие внутри государства цивилизованных народов... Правда, и Западный мир устремлялся в иные страны в крестовых походах, при открытии и завоевании Америки, но там он не соприкасался с предшествовавшим ему всемирно-историческим народом...
Здесь (то есть в Западном мире.- В.К.) отношение к внешнему миру лишь сопутствует историческому процессу... В нем (Западном мире.- В.К.) жил совершенно новый дух, благодаря которому должен был возродиться мир, а именно свободный, самостоятельный, абсолютное своенравие субъективности".
Итак, для Запада, выросшего на "сгнивших" развалинах поверженного древнего мира (культуру которого победители на данной стадии своего развития еще не могли оценить и принять), в новом мире существовал только один полноценный "субъект" - он сам; весь остальной мир был только "объектом" его деятельности. Как говорил одновременно с Гегелем Чаадаев, "Европа как бы охватила собой земной шар... все остальные человеческие племена... существуют как бы с ее соизволения". Эта мировая ситуация западной культуры чревата тяжелейшими последствиями, которые в наше время с жестокой ясностью предстали перед самим Западом.
Правда, и сознавая все это, нельзя переоценить величие истории Запада. Опираясь всецело на самого себя, он действительно явил торжество свободы деяния и мышления. Его история есть подлинно героическое освоение мира.
Вместе с тем в наше время, через полтора века после гегелевского апофеоза западной героики, на первый план выступают совсем иные стороны дела. Не так давно литературовед И.Б.Роднянская изложила чрезвычайно характерную позицию одного из виднейших современных историков культуры Запада - Линна Уайта, выраженную в его работе "Исторические корни нашего экологического кризиса". Речь идет о принципах отношения западной культуры к природному миру, но эти же самые принципы всецело определяют и отношение Запада к другим народам и их культурам (что явствует, в частности, из приведенных выше суждений Гегеля).
"Автор,- пишет И.Б.Роднянская о работе Л.Уайта,- видит отдаленные идеологические и психологические предпосылки современного экологического кризиса в иудео-христианском90 учении о человеке, как сверхприродном существе и венце творения - точнее, в той культурной модификации христианской антропологической доктрины, которая характерна для западноевропейского средневековья...
Наши (то есть западноевропейские.- В.К.) повседневные навыки обусловлены подспудной верой в непрерывный прогресс, истоки которой восходят к иудео-христианской телеологии... Согласно иудео-христианской доктрине, Бог создал все для блага человека, ни одна вещь или тварь не имеют иного предназначения, помимо служения человеку и его цели..."
Далее встает проблема глубокого "контраста" западного и восточного христианства.
"Западное сознание,- утверждает Л. Уайт,- уже не в состоянии отказаться от антропоцентризма... Мы относимся к природе высокомерно и презрительно и готовы пользовать ее на потребу любой нашей прихоти"91.
Эта концепция нуждается в одном очень существенном уточнении. Дело обстояло, без сомнения, вовсе не таким образом, что Запад (в отличие от Востока) был фатально вынужден воспринять именно эту "модификацию" христианства. Запад выбрал и усвоил ее, ибо она, как говорится вполне соответствовала его исторической практике, в которой он опирался только на себя, выступал как своего рода бог в отношении внешнего мира.
Да, западный человек в самом деле осознал себя по отношению к "внешнему миру" - и природному, и человеческому - в качестве "человекобога". Это было совершенно необходимой основой западной героики, западного свободного творчества. Но одновременно это означало, что Византия и государство ацтеков, Индия и Китай и, конечно, Россия - только объекты приложения сил Запада и не имеют никакого всемирно-исторического значения.
Чрезвычайно показательна гегелевская характеристика Византии, непосредственно предшествующая в его "Философии истории" апофеозу Западного мира: "История высокообразованной Восточной Римской империи... представляет нам тысячелетний ряд беспрестанных преступлений, слабостей, низостей и проявлений бесхарактерности, ужаснейшую и поэтому всего менее интересную картину".
Вполне понятно, что многократные атаки крестоносцев, сыгравшие громадную роль в разрушении Византии, оценивались на Западе как совершенно справедливое дело (Гегель здесь же с удовлетворением констатирует; что "наконец дряхлое здание Восточной Римской империи... было разрушено энергичными турками"). Такое представление о Восточной римской империи не только до самого недавнего времени безусловно господствовало на Западе, но и - начиная с ХVIII века - оказало весьма сильное воздействие на русское сознание. Предстоит еще большая работа по восстановлению истинного облика Византии; в последние годы много сделано в этом направлении в работах С.С.Аверинцева.