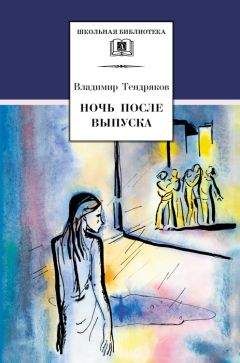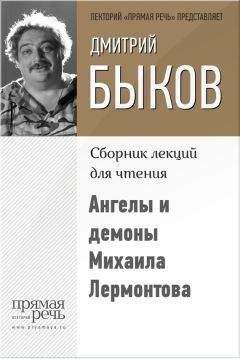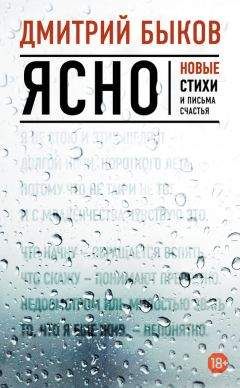Дмитрий Быков - Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник)
Прошло несколько лет. Мы не стали «женихом и невестой», потому что в 1968 году, 20 декабря, Вовка умер от дифтерии, потому что ему не сделали на его Урале прививку. Ему было всего шестнадцать. Он знал много стихов, на олимпиадах почти всегда был лучшим. Занимался с двоечниками, на которых все махнули рукой, собирал крошечные радиоприемники, рисовал простым карандашом фантастические картины о космосе и инопланетянах…
Хоронили Володю 25 декабря. День был морозный, но проводить его пришла почти вся школа. Жизнь и смерть мальчишки с Урала повлияли на судьбу многих людей: братья Ливановы стали детскими хирургами, кое-кто из бывших двоечников окончил школу без троек. Я поступила в электротехнический институт, о котором мечтал Вовка. Вышла замуж за однокурсника, которого не случайно зовут Володя. У меня дома много камней, подобранных на дороге. Никто не верит, что такая «красота» лежит под ногами…
Много лет спустя у соседей родился малыш с диагнозом ДЦП. Я рассказала им о Вовке. Алешка растет отличным парнем. Родители его любят и гордятся его успехами в школе. Врачи сделали несколько операций. Он почти не хромает. Когда я встречаю его, мне кажется, что это Вовка вернулся из прошлого. Идут годы. Летом я прихожу к могиле друга и приношу несколько красивых камней. Долго сижу на скамеечке, а когда кто-нибудь подходит и спрашивает: «Кто такой Владимир Борисович Тивоненко»? Я отвечаю: мальчик из моего детства, подаривший мне жизнь. И если просят, рассказываю о том, как я неудачно спряталась в заброшенном колодце и что именно Вовка нашел меня и вытащил чуть живую, потерявшую голос и надежду на спасение.
Валерия Суворова
О рожденных в середине прошлого столетия
В1965 году, когда я пошла в первый класс, мне и семи лет от роду не было. Детей тогда так рано на учебу не отдавали. Рожденные в сентябре, октябре, ноябре шли в школу почти восьмилетками, поэтому я среди них казалась щупленькой и маленькой. И прозвище мне тогда сразу дали – «пичужка». Коса моя была почти до самого подола школьного платья. Форму носили не очень длинную, поэтому, поднимаясь на второй этаж краснокирпичного старинного здания бывшей мужской гимназии (а во время Великой Отечественной войны – госпиталя), девчонки держали свои портфели сзади, – на всякий случай, чтобы соблюсти нормы приличия. Форма коричневого цвета для девочек, с черным фартуком, шла почти всем. Но размер у меня был маленький, детский, поэтому, не найдя ничего подходящего в магазине, мне сшили в ателье роскошное платье из коричневого панбархата. А нарядный белый фартук с шелковыми крыльями мне мастерила мама сама всю ночь перед первым сентября.
Школа № 6, в которой я училась, была единственной специализированной в провинциальном областном городе Калинине (теперь снова Твери), в ней преподавался английский язык со второго класса по особой программе, в шестом классе была география Великобритании, в восьмом и девятом – английская литература в оригинале, вместо уроков труда в старших классах – технический перевод. Учебников для такой школы было не достать. Ученики, чьи родители могли скопировать отрывки текстов или географические карты, пользовались особым расположением.
Подарков тогда было делать не принято. Не то чтобы кто-то это запрещал открыто, но не принято – вот и все. Самый большой подарок, который мы покупали учителю, был букет цветов. В нашей школе учились дети многих высокопоставленных и влиятельных лиц города, но ни подхалимства, ни поблажек, ни расслоения на «тех» и «этих» никогда не замечалось.
Анна Ивановна, директор школы, казалась нам грозной и неприступной взрослой дамой. Она помимо прочего была еще и учителем математики, которую я не понимала и недолюбливала. Поэтому когда в класс входила директор, я с замиранием сердца следила за ее взглядом и старалась втянуть голову в себя поглубже, чтобы остаться незамеченной.
Родители очень рано – по тем временам – подарили мне на день рождения золотое кольцо «поцелуйчик» с двумя глазками – розовым и рубиновым. Колечко было нежным, девичьим, мне ужасно хотелось носить его постоянно. Но я ведь плохо училась по математике! Сознавая это, перед уроком алгебры или геометрии я тихонько стаскивала кольцо с пальца и прятала в портфель. «Теорему ответить не можешь, а кольцо напялила!» или «По самостоятельной работе опять двойку получила, а кольца носишь!» – так и звенело у меня в ушах. Зато на русском, литературе, английском колечко с пальца не снималось.
Классным руководителем тогда у нас был Михаил Юрьевич, взрослый опытный педагог, прошедший войну, преподававший у нас еще и английский. Класс делился на три языковые группы по девять-десять человек в каждой. Я была в группе Михаила Юрьевича. Он относился к нам по-отечески, у него подрастала дочь, немного постарше нас. Позже, через много-много лет, мы встретились с Михаилом Юрьевичем, приехавшим издалека на юбилей факультета университета, но учитель не узнал ученицу. Мне было жутко горько от этого, но ведь таких, как я, у него были сотни, всех и не упомнить, наверное…
Я очень любила английский. У меня никогда не было сомнений или колебаний, куда я пойду учиться после школы: конечно, на РГФ! Словосочетание «романо-германская филология» грело душу и вселяло большие надежды на будущее. Кто тогда думал о том, что пока ты беспартийный, то близко не подойдешь к этому самому «романо-германцу», будешь стоять по разнарядке в очереди, как «прослойка», чтобы вступить в ряды. Да нагрянет перестройка. И пойдешь ты по жизни бок о бок с отечественным библиотечным делом, правда, активно используя знание иностранных языков, особенно в 92–93-м, когда зарплату будут давать раз в три месяца и придется держать роту учеников, жаждущих изучать английский.
А тогда, в далекие семидесятые прошлого века, мы взрослели медленно, шаг за шагом осваивая городское пространство. В кинотеатре «Вулкан» был широкоформатный экран, и впервые пустили фильм «Оливер», да на английском! Это было невообразимо. Мы и иностранцев-то, кроме учившихся в мединституте афроамериканцев, как сейчас принято говорить, не видели, не то чтобы англичан. В классе организовали несколько звеньев, члены одного из которых, носившего название «Искусство», сразу же побежали в первый воскресный день в кино. Мы учились по субботам, поэтому единственный выходной было жаль тратить по пустякам, но на такое! Нас привлекала не столько иностранная жизнь, сколько возможность послушать вживую, как же они все-таки говорят по-английски. Ведь учили нас в основном русские евреи. А учителей наших, в свою очередь, учили другие такие же, и, заметим, ни одного англичанина среди них не наблюдалось.
Но вскоре наше звено расформировали: уж слишком подозрительным показалось администрации наше увлечение искусством. Наверное, не зря. Лет через десять двое из звена эмигрируют в Израиль, двое – в Америку, двое выйдут замуж в Москву, один, бедный наш Эдик, – Эдмон Оттович, умрет от алкоголизма, но оставит все-таки после себя потомство, женившись сразу после школы в восемнадцать лет.
Этот Эдик Никольский очень мне нравился, теперь даже и не знаю чем. Розовощекий, щуплый, среднего росточка, в очках с толстыми стеклами, Эдик хорошо рисовал. У него у первого появились фломастеры – карандаши, которые и точить не надо было, а таких цветов и оттенков, что глаз не оторвать! Мы с моей соседкой по парте Ленкой Дикушиной часто шли сзади Эдика по пятам после уроков, провожая его до дома и пытаясь добиться внимания, но безрезультатно.
Только однажды, после ноябрьского осеннего бала в классе восьмом, Эдик проводил меня до дома. А так как школа находилась в центре города, то идти пришлось далековато. Парни с девчатами тогда вели себя скромно. Мальчишка вел меня, приобняв за плечи, и я думала, что с ума сойду от счастья. Первая любовь, ничего не поделаешь. Это чувство окрыляло меня тогда, ноги сами несли меня в школу – ведь я увижу его! Однажды на родительском собрании Валентина Ильинична, наша химичка, сказала моей матери: «Не пойму, когда я им объясняю новый материал, почему Лера смотрит все время вбок, а не на меня». А слева, через ряд, на задней парте сидел Эдик.
Мальчишки нашего класса, только повзрослев, сняли с себя суконную мышиную форму и приоделись. Пошли в моду брюки-клеш, а где их купить-то было? Сережка Челышев, разгильдяй и двоечник, оторвал от скатерти желтую шелковую бахрому, да и вставил по бокам брючин. Пришел на экзамен в восьмом классе, а его не пускают в зал сочинение писать, прогнали домой переодеваться. Боролись учителя и с прическами: девчонкам не разрешали кудри завивать, а мальчишкам – «под “Битлов” косить». А им так хотелось! Волосы длиннющие по плечам лежат, сигареты, как выйдут из школы, втихую прикуривают, воображают, что уже взрослые. Жевательную резинку, как мы тогда ее называли, «жвачка», всегда делили по-братски: изо рта в рот! Один пожует, другому передаст. А то из лыжной мази с гудроном и смолой чего-нибудь похожее сварят – смех, да и только.