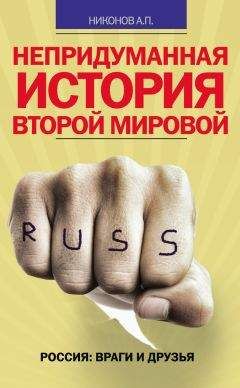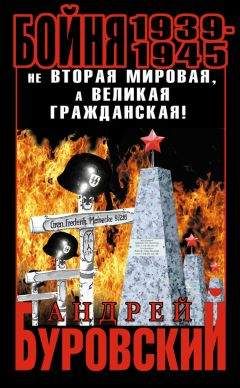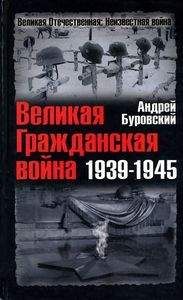От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
19 февраля новый премьер-министр Ирана Ахмад Кавам эс-Султанэ прибыл в Москву, где задержался на три недели. Молотов жестко добивался нефтяных концессий для СССР, обещая взамен посредничество между Тегераном и сепаратистами. Кавам был непреклонен, ссылаясь на принятый меджлисом закон, запрещавший предоставление концессий до полного вывода иностранных войск. После безрезультативных разговоров с наркомом, Кавам дождался встречи со Сталиным. Советский лидер предложил иранскому премьеру любую помощь, даже если бы тот захотел поменять конституцию и распустить меджлис, чтобы самому править страной. Для убедительности советские танки начали движение к Тегерану. Но Кавам уклонился от «помощи».
Сталин и Молотов были вынуждены пойти на компромисс: вывод советских войск в шестимесячный срок в обмен на обещание провести через меджлис договор о создании смешанного советско-иранского нефтяного общества.
Советско-иранские переговоры в Москве только начались, а американская дипломатия уже поторапливала иранское правительство с постановкой вопроса в Совете Безопасности ООН о военном присутствии СССР в Иране.
Прошло 2 марта, когда Москва по договоренности с Англией и Ираном должна была вывести свои войска из Ирана, но они продолжали там оставаться. Громыко вспоминал: «Я получил указание из Москвы: если будут этот вопрос ставить на обсуждение, то следует сказать, что наши войска задерживаются ввиду непредвиденных обстоятельств. Выслушав наше объяснение, инициаторы обсуждения прямо на заседании задали вопрос:
– Скажите, пожалуйста, что это за непредвиденные обстоятельства, на которые вы ссылаетесь как на причину задержки с выводом войск?
Мною был дан ответ:
– Непредвиденные обстоятельства потому и являются непредвиденными, что их невозможно предвидеть.
С мест публики раздались бурные аплодисменты – я и не ожидал, что это будет так».
Зато Трумэн был в ярости: «Это было грубым нарушением достигнутых договоренностей. Это также означало, что Ирану придется вести переговоры с Россией с пистолетом, приставленным к виску. Я решил, что советское правительство должно быть проинформировано о нашем отношении к такому поведению в международных делах».
Бирнс после разговора с Трумэном 4 марта направил в Москву ноту, которая, «оставаясь дипломатически вежливой, очень ясно давала понять, что нам не нравится то, как Россия ведет себя в Иране». В ноте говорилось: «Решение советского правительства сохранить свои войска в Иране сверх срока, предусмотренного трехсторонним договором, создало ситуацию, в отношении которой правительство Соединенных Штатов как член Организации Объединенных Наций и как участник Декларации по Ирану от 1 декабря 1943 года не может оставаться равнодушным».
В отношении Турции американское давление на Советский Союз проявилось еще более наглядно. В Стамбул отправился крупнейший в мире американский линкор «Миссури», чтобы доставить на родину тело умершего в США турецкого посла. Но ни для кого не было секретом, что тем самым проводилась акция демонстративной поддержки Турции в момент ее противостояния советским требованиям о Проливах и территориальных претензиях по Карсу и Ардагану. Молотов позднее скажет: «Вопрос о Дарданеллах, конечно, надо было решать. Хорошо, что вовремя отступили, а то это привело бы к совместной против нас агрессии».
Бирнс 17 февраля в сопровождении Бернарда Баруха нанес «визит вежливости» гостившему в Америке Черчиллю, который обсудил с ними свою предстоявшую речь в Фултоне. Барух был давнишним деловым партнером Бирнса на Уолл-стрит.
Чуть позже с подачи Бирнса в Белом доме принимается – пока не анонсируемое – решение о назначении Баруха представителем США в Комиссии по атомной энергии. Как было ясно всем посвященным в ядерные вопросы, это означало, учитывая взгляды самого Баруха, конец даже разговорам о возможности сотрудничества с Советским Союзом в этом вопросе.
Ачесон от этого назначения пришел в ужас. Лилиенталь написал в дневнике: «Прочитав вчера вечером новости, я почувствовал тошноту… Нам нужен молодой, энергичный, не тщеславный человек, чтобы русские не подумали, будто мы пытаемся выкопать им яму, на самом деле плюя на международное сотрудничество. Барух лишен всех этих качеств».
А когда о назначении Баруха узнал Оппенгеймер, он сказал коллеге по Лос-Аламосу Уильяму Хигинботэму, незадолго до этого ставшему председателем вновь созданной Федерации ученых-ядерщиков:
– Мы проиграли.
В начале 1946 года стало окончательно понятно, что Советский Союз не может рассчитывать на какую-либо экономическую поддержку от Соединенных Штатов. Что Москву несколько лет просто водили за нос.
У СССР были все основания рассчитывать на получение как минимум крупного кредита от Соединенных Штатов. «Поскольку Сталин и Молотов испытывали доверие к Рузвельту, они (что было немаловажно) были среди основателей Всемирного банка и Международного валютного фонда… Ожидание Сталина, что США помогут советскому руководству восстановить страну и предоставят ему крупный кредит даже после смерти, было оправдано тем, что переговоры по предоставлению кредита шли уже почти два года», – справедливо замечает Сюзан Батлер.
Основания рассчитывать на экономическое партнерство были и потому, что и в 1930-е годы, когда СССР и США никак не были союзниками, американские технологии активно помогали реализации планов первых пятилеток. В Москве рассчитывали на прагматизм американского бизнеса и поддерживающих его интересы государственных и лоббистских структур.
Гарриман еще в 1943 году несколько раз специально встречался с Микояном, чтобы обсудить характер и объемы послевоенной американской помощи. С 1944 года советская сторона тоже неоднократно поднимала вопрос о предоставлении Советскому Союзу крупного американского кредита.
В 1944 году Москву посетил президент Торговой палаты США Эрик Джонстон. Он встретился со Сталиным, проговорил с ним два с половиной часа и заверил, что Америке понадобятся рынки сбыта продукции бурно росшей в годы войны промышленности. А потому кредит позволит СССР закупать товары из США, что в интересах обеих стран.
Американский проект кредитного соглашения, составленный с участием Гарримана, был представлен заместителю наркома внешней торговли Степанову еще 8 сентября 1944 года. В Наркомате внешней торговли его сочли – с небольшими оговорками – «в целом приемлемым». Эксперты Наркомата иностранных дел пришли к выводу, что предложенные условия «безусловно более выгодны по сравнению с условиями других кредитных соглашений, заключенных с СССР до сих пор». Микоян направил соответствующий положительный отзыв и проект постановления ГКО Сталину и Молотову. Однако 21 сентября на совещании у Молотова Председатель Госплана Вознесенский раскритиковал проект соглашения.
В результате последовавших согласований НКИД был подготовлен проект ответа американцам, где подчеркивались беспрецедентные масштабы предстоявшего послевоенного восстановления СССР. Молотов от себя дописал, что СССР будет «трудно», «невозможно» обойтись без американской помощи.
Третьего января 1945 года НКИД представил Гарриману первую официальную заявку Советского Союза на послевоенный кредит в размере 6 млрд долларов с выплатой в течение 30 лет, из расчета 2,25 % годовых. Министр финансов Генри Моргентау высказался тогда за увеличение этой суммы до 10 млрд долларов. В Москве не возражали. Не возражал и государственный департамент. Сталин пребывал в уверенности, что кредит уже у него в кармане.
Однако тогда же, в январе 1945 года Рузвельт попросил остановить проработку этого вопроса до встречи в Ялте. Сталин намекнул на кредит США в первый же вечер на Крымской конференции, пошутив, что если Рузвельт захочет пятьсот бутылок шампанского, он «предоставит их президенту в долгосрочный кредит на тридцать лет». Рузвельт сделал вид, что намек не понял и так и не поднял этой темы в ходе конференции. Сталин и Молотов тоже о ней не говорили, вероятно, считая вопрос решенным или ожидая инициативы от американского президента. А Рузвельт, вполне вероятно, решил подождать окончания войны в Европе и/или подтолкнуть СССР к войне с Японией.