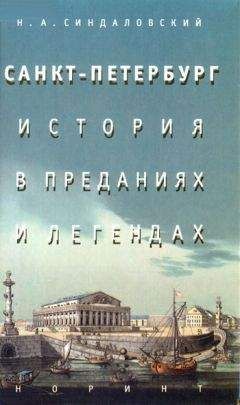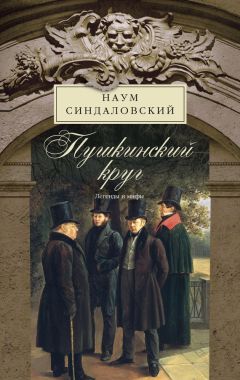Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории
Существует литературная легенда, что вместо слова «будить» у Мандельштама было первоначально другое слово – «губить», которое переворачивало весь смысл стихотворения:
Будет губить разум и жизнь – Сталин.
К сожалению, это только легенда. Трудно сказать, как отнесся сам Сталин к этому стихотворению. Доказать лояльность поэту так и не удалось. А вскоре сами собой пришли другие стихи, за которые поэту пришлось жестоко поплатиться:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.
Как утверждает Надежда Яковлевна Мандельштам, стихи о Сталине слышали не более полутора – двух десятков человек, те, кто бывал в доме Мандельштамов и у кого бывал он. Среди них был и Борис Пастернак, который будто бы сказал Мандельштаму: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Но даже среди этих немногих близких людей оказался предатель, а может быть, даже и не один. Стихи сразу распространились и стали известны Ягоде, а от него – Сталину. «Изолировать, но сохранить», – коротко изрек вождь и тем самым решил судьбу поэта. На эзоповом языке советских инквизиторов это означало лагерь и каторгу. Как «десять лет без права переписки» на том же большевистском языке означало расстрел.
Дело Мандельштама вел следователь ВЧК – ОГПУ – НКВД Николай Христофорович Шиваров, отчество которого для многих литераторов было символическим. Напомним, что шефа жандармов Бенкендорфа, которому император Николай I поручил следить за жизнью, передвижением и творчеством Пушкина, звали Александром Христофоровичем. Ассоциации были более чем красноречивы и последовательны. Все шло к гибели.
Подлинные обстоятельства смерти Мандельштама неизвестны. По официальным данным, он умер от паралича сердца 27 декабря 1938 года в одном из пересыльных лагерей Дальнего Востока. Сохранилось множество легенд о последних днях поэта. По одной из них, Мандельштама видели в партии заключенных, отправлявшихся на Колыму. Но на пути туда он будто бы умер, и тело его было брошено в океан. По другой легенде, его расстреляли при попытке к бегству, по третьей – забили насмерть уголовники за то, что он украл кусок хлеба, по четвертой – он повесился, «испугавшись письма Жданова, которое каким-то образом дошло до лагерей». О каком именно письме Жданова идет речь, неизвестно. Еще по одной легенде, Мандельштам вообще не был отправлен на каторгу. Он так и остался жить в Воронеже, пока туда не пришли немцы. Они-то будто бы и расстреляли поэта. Кому было удобно свалить вину за гибель поэта на немцев, остается только догадываться.
Но существуют легенды, которые отрицают насильственную смерть поэта. Согласно этим легендам, он или отбывал новый срок в режимном лагере за уголовное преступление, или «жил с новой женой на Севере».
Надо сказать, что сквозь все лагерные легенды о Мандельштаме красной нитью проходит один знаменательный сюжет. Все они рассказывают о нем как о «семидесятилетнем безумном старике с котелком для каши, когда-то писавшем стихи, и потому прозванном Поэтом». В год трагической гибели поэту Мандельштаму было всего 47 лет.
На 8-й линии Васильевского острова в шестиэтажном доме № 31, построенном в 1910–1911 годах по проекту архитектора В. И. Ван дер Гюхта, в 1920–1930-х годах жил брат Осипа Мандельштама – Александр, у которого «в каморке над черной лестницей» поэт неоднократно останавливался, приезжая в Ленинград. Здесь он написал одно из лучших своих стихотворений, посвященное своему любимому городу. Измученный, издерганный и загнанный в угол, предчувствуя скорый конец, он признается в любви к единственной своей родине Петербургу – Петрограду – Ленинграду.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! Я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
В 1991 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска с памятным текстом: «В этом доме в декабре 1930 года поэт Осип Мандельштам написал „Я вернулся в мой город, знакомый до слез…“»
Через два года после трагической смерти Иосифа Мандельштама, 24 мая 1940 года, в Ленинграде, в еврейской семье родился другой великий Иосиф – Иосиф Бродский. Его отец, Александр Иванович Бродский, был военным фотокорреспондентом, после войны работал фотографом и журналистом в нескольких ленинградских газетах. Мать, Мария Моисеевна Вольперт, работала бухгалтером. Стихи начал писать сравнительно поздно, но, если верить одной из семейных легенд, однажды, увидев галерею портретов лауреатов Нобелевской премии, будущий поэт будто бы воскликнул: «Я тоже буду в их числе».
В ранней юности характер Бродского отличался возрастной строптивостью, максимализмом и неуживчивостью. Дело осложнялось непростыми отношениями с родителями, особенно с отцом. Возможно, сын не мог простить отцу того, что был назван Иосифом в честь Сталина. Отец был преданным коммунистом, верным ленинцем и непримиримым борцом с вражеской идеологией. Так, например, когда Иосиф бросил школу, Александр Иванович, «желая предостеречь сына от еще более безрассудных поступков», отнес его личный дневник в Большой дом. Будто бы с этого момента мальчик был взят на заметку органами.
Бродский был исключительно категоричен не только по отношению к творчеству своих коллег по поэтическому цеху, но и в оценках их внутренних качеств. Чаще всего эти оценки были нелицеприятными и далеко не лестными. Сергей Довлатов в «Записных книжках» рассказывает, как однажды в Америке навестил Бродского в госпитале. «Вы тут болеете, а зря. Евтушенко между тем выступает против колхозов». Бродский еле слышно ответил: «Если он против, я – за».
Иосиф Александрович Бродский
Тут надо сделать необходимое отступление. Бродский, несомненно, ценил творчество раннего Евтушенко, но был нетерпим к наиболее отвратительным человеческим чертам, буквально выпиравшим из всех пор модного в шестидесятых годах поэта. Евтушенко был жаден до славы и завистлив к коллегам по творчеству. Отсюда, как утверждает городской фольклор, произрастают корни взаимной неприязни двух поэтов. Евтушенко не мог не чувствовать за своей спиной дыхание соперника. Говорят, однажды его вызвали в ЦК КПСС и напрямую спросили, талантлив ли Бродский, на что Евтушенко будто бы ответил: «Талантлив, но к русской поэзии стихи Бродского отношения не имеют».
И выдворение Бродского из страны, если верить фольклору, прошло не без участия Евгения Евтушенко. Будто бы накануне принятия окончательного решения в беседе с председателем КГБ Ю. В. Андроповым Евтушенко сказал, что для Советского союза было бы лучше не преследовать Бродского как диссидента, что может негативным образом отразиться на репутации страны в глазах Запада, а выслать его на этот самый Запад. И это якобы стало решающим аргументом в пользу высылки. Потом уже Евтушенко пытался оправдаться в глазах общественного мнения тем, что намекнуть «куда следует» о предпочтительном для него выезде за границу будто бы просил его сам Бродский. Впрочем, эту версию Бродский категорически отрицал.
«Бродский тоже не сахар», – любили говаривать его товарищи по перу. Напомним, что этот колкий каламбур, якобы придуманный художником Вагригом Бахчаняном, на самом деле имеет давнюю фольклорную предысторию. Фамилию Бродский в начале XX века носил хорошо известный в России поставщик сахара. После Февральской революции махровые антисемиты при случае любили напомнить непосвященным, что кому принадлежит в этом мире: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого». Эту поговорку мы уже упоминали. Был ли в родстве герой нашего очерка с тем давним сахарозаводчиком, мы не знаем, но соблазн воспользоваться сходством фамилий оказался настолько велик, что фольклор не мог себе в этом отказать.