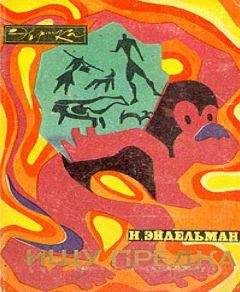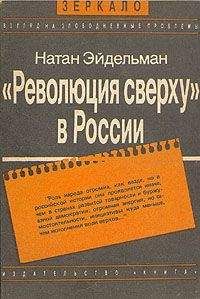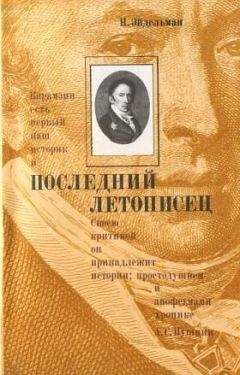Натан Эйдельман - Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине
Пущин:
«Уж Модест Андреевич не мог промолчать об ордене и чине. А ведь наш аристократ хоть и получил орден от Бурбонов, а первое, что сделал после лицея, — это принялся бунтовать против законных монархов.
В Пьемонте, как мне удалось узнать, он участвовал в революции (марта 1821 года), свергнувшей гнусного Виктора-Эммануила, того самого королька, кто похвалялся, что вычеркивает из истории все происходившее меж 1789-м и 1815-м; кто восклицал, что он «проспал четверть века и знать не желает происходившее во время сна».
Броглио и его старший брат помогли сему славному монарху снова отправиться за сладкими сновидениями, однако мятежники доверились странному, ненадежному наследнику престола «пьемонтскому Гамлету» Карлу-Альберту. Последний в решающую минуту сбежал — и моему Сильвестру пришлось, спасаясь от австрийских войск, уйти в изгнание.
Однако и тут не унялся первый лицейский бунтовщик — примкнул к греческим повстанцам и, как лорд Байрон, сложил голову — только вот неизвестно, когда и при каких обстоятельствах! Мир праху».
Затем Модя высказался о себе самом:
«Барон Модест Андреевич Корф. Способности обыкновенные, недостаток их выкупается большим трудолюбием. Человек, про которого вообще нельзя сказать ничего особенного — ни в хорошую, ни в дурную сторону; словом, человек средний, но которому всегда и вовремя благоприятствовало необычайное счастье. Биография его — вещь примечательная, впрочем, только по видимому в ней персту божьему… Теперь он тайный советник, государственный секретарь, камергер и кавалер Анны 1-й с короною, Владимира 2-й и Станислава 1-й ст. Женат на кузине, дочери умершего подполковника Корфа, имеет сына и дочь».
Пущин:
«Удивление Корфа собственным успехам очень забавно. С тех пор, как сделана была запись, он уж действительный тайный, и при новых орденах, и книгу написал (которую лучше бы не писать) — а стоит задуматься — отчего «человеку среднему» столь благоприятствовало счастье?
Положим, Модинька не средний — повыше! Были у нас лицейские гуси не менее вальяжные, но не они, — Корф к сорока годам продвинулся дальше других. Отчего же? Еще потолкую об этом в дальнейшем.
Вообще замечу, что, перечисляя однокорытников старых, Корф как бы делит их на три отряда:
1. Погибшие люди (a la Броглио)
2. Бескарьерные (вроде Малиновского)
3. Преуспевшие (как сам Корф!)
Поглядим же сперва на «оправдавших надежды», на тех, кто к сорока годам уж генерал (как этого и требовала лицейская марка!).
Про Сергея Ломоносова (на лицейском же наречии Крота)Корф замечает, что он «поверенный в делах в Бразилии, действительный статский советник с Владимиром на шее»; я же могу добавить, что после Бразилии были Португалия, Нидерланды. После Владимира еще Станислав, Анна 1-й степени да сверх того экзотические бразильский орден Южного креста, португальский орден Христа 1-й степени… В дальнейшем я отказываюсь дополнять столь важные для Модиньки сводки об орденах; я знаю только, что всего на 29 лицейских приходится больше 200 русских и иностранных орденов — у одного Горчакова уже 35, зато у меня, Кюхли, Пушкина — ни одного!
Другие же сорокалетние генералы наши — Дмитрий Николаевич Маслов, прозванный по перу и дару слова нашим Карамзиным; затем два друга, два Павлуши — Павел I Гревениц, Павел II Юдин, еще Стевен Федор Христианыч, дражайший Фрицка, столь же молчаливый, сколь добрый. Все покойники. А славные были ребята, хоть и далекие от моих житейских забот. Здесь и Сергей Дмитриевич Комовский — Смола, Лиса, до которого я (в отличие от Корфа) небольшой охотник за его старинное фискальство и благопристойность.
Об Александре Алексеевиче Корнилове и Александре Павловиче Бакунине Корф гладенько излагает — люди «с порядочными формами», такие-то чины, должности, ордена. А ведь «мосье» (так мы называли Корнилова) — в декабре 25-го служил в Московском полку и сперва решил не присягать, а после хоть и присягнул Николаю, но все же попал в крепость и счастливо отделался.
И его уже не стало,
И его как не бывало…
Бакунин же, находясь на службе в Москве, одновременно со мною состоял, так сказать, в филиале тайного союза (обществе семисторонней звезды) — и тоже счастливо отделался.
Но для меня он еще и брат своей сестры (в которую, как знаете, ухитрились одновременно влюбиться Пушкин, Малиновский и ваш покорный!).
Господи, как давно это было!
И, наконец, еще два преуспевших, а нам особливо любезных».
Корф:
«Михаил Лукьянович Яковлев. Добрый малый, хороший товарищ, надежный в приязненных своих сношениях, без блистательных дарований, но не без способности к делу, хороший музыкант и приятный композитор. По службе, которую он начал в московском сенате, ему сперва очень не везло, но потом, с переходом во II отделение собственной государевой канцелярии (к Сперанскому), все поправилось. Теперь он действительный статский советник с Владимиром и Анной на шее, но занимает хотя спокойное, однако весьма малозначащее место директора типографии II отделения. Он женат на вдове генерала Игнатьева, у которой много детей от первого брака, но с ним нет».
Пущин:
«Все правильно Корф написал. Не сказал только, что Яковлев — до гробовой доски наш лицейский староста, что у него все наши лицейские бумаги, что он Паяс 200 персон. Но про Яковлева — сколько ни толкуй, все мало!»
Корф:
«Федор Федорович Матюшкин. Чуть ли не оригинальнейшая из всех наших карьер, потому что из заведения, предназначенного преимущественно (теперь исключительно) для гражданской службы и выпускавшего воспитанников своих в военную только в виде изъятия, Матюшкин вышел — в морскую, сделал себе в ней имя и до сих пор продолжает ее с отличием. Он человек пылкий и вместе рассудительный, и жаль, что не выбрал сначала другой карьеры, где мог бы быть полезнее себе и другим. Ходил с Головниным вокруг света, участвовал в известной экспедиции Врангеля в Сибирь; имев и разные другие важные поручения, он все еще только капитан 1-го ранга, но зато сверх Анны и Станислава на шее и Владимира в петлице, украшен Георгиевским крестом «за 18 кампаний». Теперь он командует кораблем в Черноморском флоте. Холост».
Пущин:
«До чего же Модя характерен: морская служба, кругосветное и полезное путешествие — это как будто хорошо! Но «мог бы быть полезнее себе и другим».
О вице-адмирале, по прозвищу Федернелке, он же Плыть хочется, можно столь много еще добавить, что необходимо умолкнуть.
Но каков же итог для 1839 года?
Шеренгу «удачливых» составляет одиннадцать человек — чуть больше трети первого нашего курса (впрочем, некоторые карьеры, судя по иронии Корфа, еще под вопросом).
Теперь — погибшие; «шести друзей не узрим боле», — вздохнул Пушкин за несколько лет до того —
И мнится, очередь за мной…
Наш поэт был седьмым, за ним ушли еще двое — и вот Корф всех перечисляет. Первым — Николенька Ржевский: из Лицея — в армейские прапорщики, но через несколько месяцев погублен горячкою, не успев даже надеть офицерского мундира.
Второй — «Николай Александрович Корсаков. Был одним из самых даровитых, самых блестящих молодых людей нашего выпуска. Прекрасный музыкант, приятный и острый собеседник, напитанный учением, которое давалось ему очень легко, с даром слова и пера, он угас в самых молодых летах… находясь при тосканской миссии. Прах его погребен во Флоренции. Это одна из самых чувствительных потерь, которую понес наш выпуск, и имя Корсакова, если бы провидение продлило его жизнь, было бы, верно, одним из лучших наших перлов».
Пущин:
«Все правильно Корф пишет. И Корсаков навсегда среди нас остался 20-летним. А Пушкин 37-летним. Мы же глядим на этих вечно молодых с завистью или уж дидактически: «Поживите-ка с наше, узнаете!»
О Старике нашем, Косте Костенском, Корф замечает, что был он «без смысла и без грамоты», «умер в 1830 году, кажется, еще титулярным советником».
Действительно, есть ли смысл умирать титулярным? Впрочем, врешь, М. А.! Старик успел больше, чем ты полагаешь, и помер коллежским асессором! А вот Семен Есаков быстро сделался гвардейским полковником, но в польскую кампанию потерял несколько пушек и застрелился. Осталась вдова с четырьмя детьми (а один из сыновей, добавим, после был под арестом по делу Петрашевского); Петр Федорович Саврасов тоже был гвардии полковник и тоже едва достиг 30-ти лет, но убит чахоткою».
Корф:
«Барон Антон Антонович Дельвиг. В лицее милый, добрый и всеми любимый лентяй, после лицея — приятный поэт, стоявший в свое время в первой шеренге наших литераторов. Но теперь почти уже забываемый. Дельвиг никогда ничему не учился, никогда истинно не служил, никогда ничего не делал и жил всегда припеваючи с любящей душой и добрым, истинно благородным характером. В последнее время он имел несчастье жениться на кокетке, женщине холодной и без сердца, дочери московского сенатора Салтыкова, и вероятно, что этот брак содействовал его преждевременной кончине. Он умер в 1831 году, оплаканный многочисленным приятельским кругом, а вдова его скоро потом вышла за брата поэта Баратынского. О службе Дельвига говорить нечего. Он числился, кажется, при Публичной библиотеке и умер чуть ли не титулярным советником».