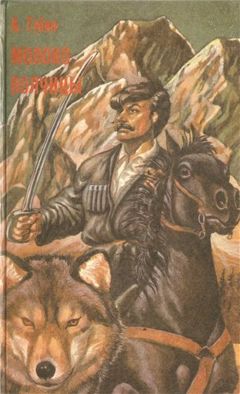Андрей Губин - Молоко волчицы
- Кум, дай курну, аж ухи опухли! - просит Федор у поравнявшегося с ним казака. На лету поймал окурок в ладонь, жадно затянулся, пряча огонек в рукав. Маруська, подражая матери, деланно закашлялась.
Скрипящие возы разъезжались. Во дворах распахивались плетеные ворота. Казачки суетились у костров. На треногих таганках кипели котлы с кулешом, на сковородках вздувались румяными нарывами пышки. Федор слез с воза, размял ноги, бросил кнут семилетнему Федьке. Маруська торопливо ополоснулась у колодезя, схватила краюху хлеба и горсть чернослива из ведра, побежала на улицу, откуда неслась голосистая девичья песня.
- У, семидерга пройдисветная! - буркнул вслед дочери Федор и спросил жену, ловкую полнотелую Настю: - Учился изверг?
- Убей ты его, окаянного! - заголосила Настя. - Сама, как велел ты, довела до школы, прихожу с базара, а он, демон, рябого бычка пасет на музге.
Черный, как жук, Федька волчком кружился около припотевших коней, словно речь шла не о нем. Кони понятливо склоняли головы, чтобы малец мог снять хомуты.
- Вот нечистый дух! - восхитился Федор, вволю затягиваясь. - Скотину любит - хозяином будет. Нас, слава богу, не учили. Посадил меня батя в пять лет быкам на ярмо - погоняй! - и вся наука, а хлеб едим просеянный. Что толку с нашего ученого Сашки? Выкаблучивается, как свинья на бечевке.
Обрушив с телеги дрова, Федор прошел в баню - огневела она топкой в углу база. Поклонился сидящим с узелками соседям - ждали, когда напарится хозяин, первый пар ему. Постороннему могло показаться, что в бане с Федора сдирали кожу, так вскрикивал он под веником. После пара сел потеть на пенек, поминутно отираясь суровым рушником. Рядом, на перевернутом котле, потеет тесть, высокий, прямой дед Иван Тристан. Деду больше ста лет, но он с удовольствием слушает, как визжат в бане бабы-вертихвостки. Наконец вышла Настя, черная, здоровая, полная, розовая самка. Принесла казакам квасу. Федька по малолетству парился с бабами и девками, тер им рогожной мочалкой широкие, как корыто, спины. Как и мать, старается угодить чем-нибудь отцу.
Трогательно единение семьи после тяжкой и подчас опасной полевой работы. Радостно возвращение кормильцев домой. Настя расстелила на земле у костра крапивный, грубый мешок, нарезала хлеба, сняла с огня казанок с похлебкой. Сели наземь и чинно взялись за глубокие деревянные ложки. Федор выпил чарку, посолонцевал каспийской рыбкой - весной ездили на подводах рыбачить - и вместе с Настей и Федькой ждал, когда тесть первым зачерпнет из казанка. Потом пили чай, тоже ложками из общей деревянной тарелки. При этом важно задумались о своем превосходстве перед людями - не каждый в станице пил чай в будние дни. После вечери Федор расспросил жену, сколько выменяла она пшеницы на картошку - ставропольские голопупые мужики меняли баш на баш. Наметил на завтра ехать за сеном с Федькой и Маруськой на двух парах, хотя у деда Ивана ломило кости - к дождю. Помолились богу. Федор и Федька полезли на сеновал, ночи стояли теплые, а шелудивому поросенку и в Петровки холодно. Настя услыхала нетерпеливый зов мужа:
- Скоро ты?
- Иду, - стыдно отозвалась жена, гремя ложками.
Все стихло. Месяц сел. Ночь стала звездной и темной, хоть повыколи глаза. Языки пламени под таганком шевелились, как синие засыпающие змеи, выхватывая из темноты то пугливую голову жеребенка, то бурдюк с айраном, похожий на зарезанного человека. Потом послышались пререкания Федора с Настей - она недавно вытравила плод и хотел а лечь отдельно, но муж не позволил.
Деду Ивану не спится. Смерть забыла о нем, давно отозвав его товарищей на бессрочную в райских полках. Тихонько напевает то грустную "Ой, вышло вийско турецькое, як та черна хмара", то разудалую. Сын французского кирасира, казак Войска Терского, он помнит десяток иноземных фраз, прожил на Линии, бывал и в Санкт-Петербурге, удостоился высочайшего взгляда дважды. Под старость пас овец, упал с яра, с тех пор хромает, в черепе вмятина - яблоко поместится. Одет в потертый офицерский архалук, на ногах теплые чарыки* из шкуры ласкового козленка, которого дед сам выпоил, вынянчил, а потом зарезал. На узком сыромятном поясе висит самоделковый ножик с роговой ручкой, окантованной багряной медью, как генеральские штаны. Кремневый пистоль заряжен крупной солью - если станичные парни полезут в сад.
_______________
* Ч а р ы к и - крестьянская самодельная обувь из сыромятной
кожи (тур.).
Иван придумывает, чем бы заняться. Подкинул на угли узловатое корневище отродившей яблони. Старик великий мастер печь чурек - судьба научила. Нашел у Насти тесто, засучил рукава, раскатал лепешку, положил на чугунный лист, другим накрыл. Разгреб огонь. Сноп искр и ломкий синеватый дымок взметнулись в низкое, испещренное изумрудинками небо. Засыпал чурек жаром. Набросил на плечи рваную бурку - с речки потянуло туманом. Лежа на боку, греет старые кости. В молодости Иван, что греха таить, воровал скот у горцев - особенным манером, с помощью мусульманского бога: подскачет на коне к стаду, перемажет рога скотины свиным салом и пулей уносится вскачь. Горцы с омерзением гонят прочь оскверненных животных, дуют в роги, бьют в бубны, поют печально и гневно священные суры Корана, иль ля аллах... А Иван следит, когда можно будет завернуть в станицу изгнанных коров и быков. Слыл он и разорителем древних могил. В Чугуевой балке ему посчастливилось найти глиняный котел с битыми скифскими черепками и серебряной цепью. С тех пор так и ходил с лопатой. Разобрал монгольскую кумирню, из кирпича сложил хату. В захоронениях находил один скелеты, железки. Стало и это промыслом - нашлись чудаки из господ, которые покупали и кости, и рухлядь. Лет в восемьдесят Иван вскидывал еще чувал с пшеницей на плечо - пудов пять. А в давности, в расцвете, было так. Застрял он с возом в речке - подручный, правый, бык ногу повредил. Казак выпряг его, вставил в ярмо чугунное литье плеч и тащил воз по станице в паре с борозденным, левым, быком.
Всякое бывало за жизнь. Шумит и шумит Подкумок в садах. Иван помнит, как в юности вода понесла его с конем в кружило - еле выловили за станицей. Теперь таких половодьев нет, и речка куда меньше против прежней. И люди не те. Прожорливый, мелкорослый, завистливый люд. Ну да он свое пожил в золотом веке войн, товарищества и полудиких коней, когда первые поселенцы обживали славный Бугунтинский редут. Ему и самому хитро; день вчерашний не помнит, а что было давным-давно - ясно, как божий день. Коней Федора он не угадал бы на улице, а того, с которым бедовал в молодости, признал бы в любом табуне, - да только где его кости?
Звездный ливень притих. За калиткой кто-то терся, переступал. Приглушенно прыснули девчонки. Плетень скрипнул. К костру подошла Маруська. Накинулась на остатки еды. Громко жуя, спросила:
- Чурек, деда?
- Ага. Вон звездочку видишь?
- Над Бекетом?
- К Бештау спустится - поспеет чурек. Будешь?
- Спать хочется, вставать рано.
- Постой. - Покопался в газырях, где смолоду носил пули. - Держи! Кинул пару леденцов - за чаем утаил внучке.
Девчонка полезла на сеновал.
- Черти тебя носят! - спросонок ругнулась Настя.
От церкви донесся истошный женский вопль. Далеко завыли меделянские кобели барина Невзорова. Им отозвалась ревом сука Есауловых - ублюдок, помесь от собаки и тарного волка. И покатилась по ночной станице собачья разноголосица. На лестницу выглянул Федор. Дед Иван мирно ковыряется железкой в пламенеющих углях.
- Ктой-то, батя?
- Должно, Нюська Дрюкова рожает - плодущая, как свинья.
- Свиньей была бы - озолотилась.
- Не вразумил господь.
- За бабкой хоть послали?
- А у нее дети не живут - гуляет, сатана, до последнего...
Собаки утихли. Время тянется медленно. В конюшне звучно захрумтел ночь. Чешется бык - сарай шатается, рогом стучит о мазанный навозом плетень. Лениво забрехали собаки, и опять тишина.
Млечный Путь переместился над Кавказом, лег тревожным мостом от Эльбруса до Бештау.
Старик выдвинул из золы чугунные листы, сказал взбрыкнувшему жеребенку:
- Готов. - Крик бабы повторился в садах. - Еще одного скинула. Ай да баба - даром что без мужа!
Лепешка пышет горячим духом, жжет ссохшиеся ладони. А казак уже задумался вновь. Думы его в невозвратной стране, когда он, ровно коршун, налетал с молодцами на немирные аулы, жег леса, гонялся за мюридами и сам спасался от клинка и аркана, а после лихо напевал на биваках:
Братцы терцы, утешайтесь
Вы оружием своим...
ЗА СИНИМ ЯРОМ
Месяц исполнился. Затуманенным сиянием заливал он ребристые меловые курганы, перелески, осыпи. За Синим яром ночь уже сломлена. Звезда взошла. Запели третьи петухи. Станица просыпалась. В поля потянулись повозки. Был день, что год кормит.
Глеб Есаулов, парубок, выгнал на пастбище скотину богатого мирошника Трофима Пигунова, нанявшись к нему с весны. Трофим - мужик, иногородний, обязан уступать дорогу работнику, знатному родом казаку. Глеб не пользовался этим правом, хозяин платил хорошо, а в конце пастьбы обещал работнику пару молоденьких бычат. Есауловы жили небогато, и Глеб пошел на приработки, на оставляя своего хозяйства. Приглашал парня в каменную артель дядя Анисим Лунь, но Глеб не понимал городского рукомесла. Он жизнью доволен, как говорится, сыт, пьян и нос в табаке. Род Есауловых древний, дворянским родам не уступит, крестьянский род от Микулы Пахаря.