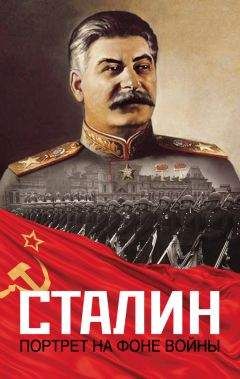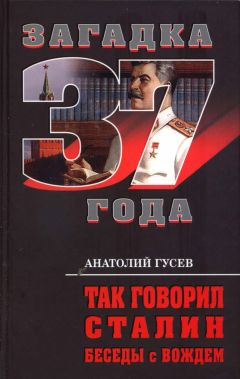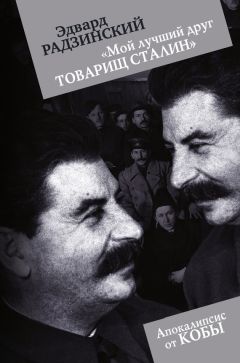Всеволод Иванов - Александр Пушкин и его время
— А земля? — спросили мужики. — Земля как? — Земля остается у помещика! У меня! — отвечал Якушкин. — Половину ее я буду обрабатывать по вольному найму, а другую половину сдам вам в аренду.
Якушинские мужики, однако, на такие условия не пошли:
— Нет, пусть будет все по старине, как повелось. «Мы — ваши, а земля — наша!» — заявили они своей известной старинной формулой.
Разочарованный неудачами в своих хозяйственных замыслах, Якушкин вернулся в Петербург и приступил снова к работе в «Союзе Благоденствия».
В Петербурге, в том, 1819 году, все развиваясь и нарастая, шла просветительная, культурная работа артелей в воинских гвардейских частях, в особенности же в Семеновском полку, что было знамением времени. Поэты-офицеры описывали просветительную эту работу в таких стихах:
…Дремал парад, пустел манеж,
Зато солдат — опрятный, ловкий,
Всегда учтив и сановит,
Уж принял светские уловки
И нравов европейский вид…
Продолжительное время эта тайная просветительная по существу же организационная, работа в гвардейских полках велась беспрепятственно, хотя и нет никакого сомнения, что правительство было о ней осведомлено. Командир гвардейского корпуса генерал-адъютант князь Васильчиков делал даже подробный доклад царю о заговорах, существующих в гвардии, и в частности, в связи с положением в Семеновском полку.
Политическое же положение в общем казалось тогда всем столь устойчивым, что теоретики из «Союза Благоденствия» исчисляли сроки возможности осуществления основного переворота в России в двадцать с лишним лет. И вдруг, в противность всем прогнозам, всем расчетам, совершенно неожиданно вспыхнуло восстание в Семеновском полку, Срывалась вся проводимая длительно работа в лейб-гвардии! Что делать? Было необходимо обсудить положение. Внезапное появление Якушкина в Каменке и было вызвано этим обстоятельством.
В тот вечер Пушкину так и не пришлось поработать — зашел к нему Александр Раевский, утащил играть на бильярде. Играли долго, всю ночь, Пушкин был не в ударе, проигрывал. А в большом доме тускло светились сквозь гардины окна из половины Василья Львовича — времени терять было нельзя, и усталый Якушкин, стоя среди кабинета, тонкошеий, большеносый, большеглазый, тревожно делал доклад о положении.
На круглом столе горело в двух подсвечниках под зелеными абажурами по четыре свечи. Члены тайного общества занимали полосатый диван углом, между фигурными печами из цветных изразцов. Здесь заседали генерал Орлов, сам хозяин Василь Давыдов, офицеры Владимир Раевский, Охотников и еще двое других. Восстание в Семеновском полку — в самом передовом! И всю работу заговорщиков срывал он, ненавистный Аракчеев.
— Друзья! — докладывал Якушкин, — как вам уже известно, в Семеновском полку Аракчеев подлым образом снял командира генерала Потёмкина и поставил вместо него полковника Шварца, своего любимца: Ясно почему! Потому что немцы из Священного Союза жмут на царя после убийства Коцебу, и тот идет на попятный. Шварц — из военных поселений! И вот вам — результат!
— Провокасьон! — буркнул по-французски Давыдов… Якушкин взглянул на него:
— Вот именно! Шварц намеренно так утеснил Семеновский полк, что возмущенные солдаты не могли долее вынести и шестнадцатого октября на вечерней поверке заявили претензию и жалобу на своего командира полка, полковника Шварца. Первой претензию заявила Государева рота… — подчеркнул он. — Ее отправили в Петропавловскую крепость… Полк не отстал, поддержал товарищей — и весь полк полняком сидит в крепости!
— Как? Весь полк? А-а! В Петропавловской крепости? — раздались голоса.
— Представьте же, друзья, что делалось в Петербурге! — рассказывал Якушкин. — Семеновцы. — слава и гордость Отечественной войны! Семеновцы — любимцы народа идут по улицам Петербурга строем, без оружия… — Куда вы? — кричит народ.. — В крепость! — Зачем? — Под арест! — За что? — За Шварца!.. Нашим предположениям, таким образом, нанесен сильный удар. Что мы должны делать? — спрашивал Якушкин.
Посыпались вопросы:
— Но как же случилось, так, что солдаты сорвали все дело?
— А что думают наши друзья в Петербурге? — А офицеры участия не принимали?
Дав разъяснения, Якушкин заговорил снова: Петербургская Управа полагает, по согласованию с Московской что представителям Управ необходимо съехаться в Москве, чтобы определить, как действовать. Вполне возможно, что для Аракчеева тайное наше общест во уже не тайна!.. В этом смысле братья Фонвизины подготавливают петербургских друзей, а я делегирован сюда…
— Прямо в Каменку? — спросил тревожно Давыдов.
— Нет! Я направлен был в Управу Тульчина и после в Кишинев, чтобы известить о созыве съезда в Москве к первому января 1821 года. Туда надо посылать выборных делегатов — по два от каждой Управы… Имею особое поручение пригласить генерала Орлова.
— Сегодня уже двадцать третье ноября! — заметил Орлов. — Не поздно ли? Успеем?
— Времени остается мало, нужно действовать, — отвечал Якушкин. — В Тульчине я уже побывал… Там все договорено…
— Кто едет от Тульчина в Москву? Пестель?
— Нет! Ох, как трудно было уговорить его не ехать… Да нельзя ему ехать. Вы его же знаете… Он так резок, так упрям, все дело испортит… Ну, педант! Пестель хорош для планов!.. Послали Бурунова, Ивана Григорьевича!
— Кто второй?
— Подполковник Комаров!
— Друзья! Невозможно! — ахнул Орлов. — Так ему же вера плохая! А если выдаст?
— А другого некого! — развел руками Якушкин. — Ну, некого! Покончив в Тульчине, скачу сломя голову в Кишинев… К Орлову! Говорят: Орлов уехал в Каменку… Именины… И в такое-то время! Именины! Ха!
— Зато это удобно для конспирации! — засмеялся Давыдов. — Спокойно!
К концу ночи основные вопросы были решены, двое делегатов в Москву были выбраны — сам Орлов и капитан Охотников. Якушкин снова взял слово:
— Еще одно, друзья! — сказал он, понизив голос. — Вы понимаете, как важно хранить такую тайну! А между тем, боюсь, здесь у нас не все в этом благополучно…
— То есть? — даже вскинулся от удивления Василий Львович. — В Каменке? В доме Давыдовых предателей нет!..
— Я не о том, — замахал Якушкин руками. — Совсем другое! Здесь старик Раевский… Он же не состоит у нас, Он вообще не состоит нигде!
— Раевский мой брат! — опять вскипел Давыдов.
— Не в том, опять не в том дело! — отбивался Якушкин. — Ну, хорошо, Раевский, это так. Брат! А Пушкин?
Зачем, скажите мне, Пушкин-то здесь? Пушкин — ссылошный! За ним следят! Генерал Инзов знает, куда он поехал. Нужно предупредить могущие быть последствия. Нужны меры, иначе пойдут опасные толки. Нужно, чтобы все были уверены, что никакого тайного общества не только тут, да и нигде быть не может…
Окна уже наливались синькой, свечи догорали под абажурами, когда заговорщики разошлись…
Бурно, стихийно, как весна, развернулись на следующий день веселые именины! Шестеро попов с уезда отпели молебен с акафистом великомученице Екатерине.
Старуха важно восседала в вольтеровских креслах, смотрела из рюшей своего чепца блеклыми глазами, смеялась, бледным ртом. Была она домашним божеством, охваченная, почтенная волнами духов, заискивающими улыбками, подобострастием, этим сытым удовлетворенным смехом. Ее потомки, ее род, наконец, ее рабы— все были благодарны ей за ту жизнь, которую она давала им. И первым жрецом этого апофеоза старой барыни был старший Давыдов, Александр Львович, великолепный амфитрион. Он правил пиром упоенно, а вышколенная прислуга приносила и уносила блюда, меняла тарелки, приборы.
Было все красиво, а красота покоряет. Прелестна была Аглая Антоновна Давыдова в своей огненной живости, грациозной веселости, с ее до захвата от смеха дыхания — тонким французским остроумием. Правду, в, Аглае все-таки было чуть-чуть что-то порочное, жалкое — ну, бабе же за тридцать, но порода, порода — герцогиня де Грамон! Европейское аристократство! Рядом с нею — ее дочь Адель, девочку в кружевном платьице, с голубым бантом на золотых локонах, с худенькими руками и ключицами, застенчивая, не спускала с Пушкина очей, полных голубого света.
На расписанном потолке в синем небе порхали голуби, амуры и все Девять Муз, окружив Аполлона, пели хором. Вино кружило головы, льстило, внушало, что «и небывалое бывает», и Пушкин любовался матерью и дочерью Давыдовыми, не зная, кому отдавать предпочтение. И вдруг легко сжалось сердце — почему же это он сегодня, на почти что языческом, деревенском пиру, не думает уж о Кате Раевской так жарко, как вчера? Или ее отрывает от него это бурное половодье плоти, радости и изобилия? Или и он, как Державин с его татарской душой русского барина, может позабыть исчезающую свою «Плениру», сможет принять ее утешающий совет: